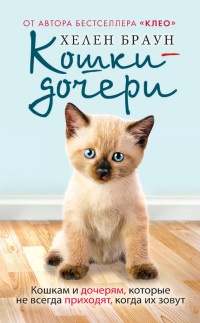Карлина яростно перекусила пуповину и наконец-то разорвала ее. Потом она подождала какое-то время, пока не вышла плацента. Потом завернула крохотное тельце в чистый угол покрывала и отправилась в дорогу. От красной почвы холмов, разогретой светившим все утро солнцем, поднимался пар. Деревья в садах под шквальным ветром раскачивались, словно духи, которые глумились над Карлиной и ее нелегким положением. Ее босые ноги утопали в грязи. Это лучше всего запомнилось Карлине в то утро — вид ее ног, устало поднимающихся, липких и будто бы окровавленных, и снова исчезающих в слякоти. Через несколько долгих минут она подошла к дому Ховиты, дверь которого была наглухо заперта. Карлина толкнула ее изо всех сил.
Ховита резко подскочила, испугавшись шума и вторжения намокшей фигуры с покрывалом в руках. Она все утро ждала, когда прольется дождь, сидя в своем кресле-качалке, купленном ее сыном Вирхилио в Вила-да-Рибейра-Брава в его последний приезд, четыре года назад. Когда пассаты приносили дожди, она не могла оставаться на пороге дома, курить трубку и наблюдать, как растут зеленая фасоль и помидоры, как птицы перелетают с дерева на дерево, как проходят мимо соседи, которые обычно останавливаются, чтобы подольше с ней поболтать, или как шумно играют дети. Ховита садилась в кресло-качалку в доме и грустила. Ей не нравился дождь. Ей становилось скучно, хоть она и знала, что нужно сказать спасибо Господу за эту воду, благодаря которой зеленая фасоль и помидоры будут по-прежнему расти, а источник Монте-Пеладу, из которого все пьют, не иссякнет. Ховита знала, что дождь это хорошо, но она скучала в одиночестве, в сумраке, и не с кем было поговорить, не было детей, чтобы их отругать, и нельзя было заплести косички девочкам, чьи матери занимались работой, подергать их за волосы. Чтобы с детства понимали, какова жизнь: нагромождение горечи и боли. Боли от голода во время засухи, когда живот сводит от пустоты, по всему телу разливается слабость, в голове стучит, не переставая; боли от одиннадцати родов, боли от того, что четверо детей умерли, а семеро уехали в Европу и никогда не приезжают. Боли от побоев ее мужей, когда они напивались…
Ховите не особенно везло с мужьями. Был только один хороший, третий по счету, бедняга Сократес, который занимался от зари до зари фруктами и рыбой, и, кроме того, огородом, поднимался за козьим молоком наверх, на гору, под драценой, и обращался с ней как с королевой, терпел ее скандалы и пьянки, делал все, что она ему велела. Сходи за водой. И он шел. Почеши мне спину. И он чесал ей спину. Доставь мне удовольствие сегодня ночью. И он доставлял. Ах да, удовольствие, секс. Это было самое лучшее в жизни. Ей всегда очень нравился секс, такое приятное ощущение — крепко прижаться к кому-то и чувствовать его влажную от пота кожу, забыть обо всем на какое-то время, ослепнув от наслаждения. Не обращать внимания на плачущих детей или кипящую на огне кукурузу. И это спокойствие после всего, благодатная слабость по всему телу, ликующее сознание и капелька нежности, пульсирующая под всем этим сиянием.
В этом Сократес тоже был лучше остальных, потому что ему несложно было делать все, что хотелось Ховите, в отличие от других мужей, которые заботились только о себе и оставляли ее одну в поисках удовольствия. Но Сократес умер много лет назад. Однажды ночью он, окаянный, уснул навсегда, а ему еще не исполнилось и пятидесяти. Раз в неделю, по понедельникам она ходила на его могилу. Ховита чистила его надгробие. Иногда она приносила с собой усыпанные цветами, словно алыми языками пламени, ветки сейбы, которая так ему нравилась. И всегда подолгу ворчала на него, как в лучшие времена их отношений, за то, что умер так рано. И даже не удосужился вернуться.
Ховита, унаследовавшая от своей матери обязанность закрывать глаза и приводить в достойный вид всех, кто умирал в деревне, и знавшая многое о разных вещах, была убеждена, что люди умирают тогда, когда им захочется. Даже дети. Конечно, никто вслух не говорил о том, что хочет умереть. Большинство даже не подозревали об этом. Но духи, живущие в голове у каждого, иногда становились злыми и завистливыми по отношению к живым и нашептывали на ухо человеку эту мысль вновь и вновь, пока не уговаривали: все, давай, пошли уже, достаточно пожил. Зачем тебе оставаться здесь дольше, разве что терпеть страдания? И если человек мало обращал внимания на непрерывный натиск голосов или не был достаточно силен, чтобы противостоять им, он давал себя уговорить, сам того не понимая. И тогда он умирал. Ховита много раз слышала, как духи зовут ее. Но пока она не собиралась уходить в мир иной. Не потому, что чувствовала какую-то особую любовь к жизни, которую она считала ничтожной, особенно после того, как рядом с ней не стало мужчины, с которым можно получать наслаждение. Потому, что Ховита не была вполне уверена, заслужила ли она рай или Господь отправит ее в чистилище. В ад — вряд ли, это уж она точно знала. Она ведь не сделала ничего, чтобы вечно гореть в котле, страдая от бесконечной боли. В конце концов, она хорошо заботилась о своих детях, всегда поддерживала чистоту в доме, а в лучшие времена иногда даже делилась едой с каким-нибудь нищим, которые иногда проходили через деревню, спасаясь от засухи на другом конце острова. Но она не отличалась добродетелью: слишком часто напивалась, крупными глотками пила тростниковый самогон, разогревавший ее и делавший из нее дикарку, заставлявший танцевать как полоумную, или бить детей, или ползать по полу, или все крушить без причины. К тому же был секс, который так ей нравился. Кроме своих трех мужей в молодости у Ховиты было много любовников на один раз, некоторые — даже женатые. Мужчины, чьи тела были желанны ей на мгновение, с которыми она встречалась тайно, в кустах по обочинам дороги, спускавшейся к берегу, или за часовней Монте-Пеладу. Нужно быть действительно грешницей, чтобы спать с мужчинами прямо за образом Богоматери…
Ховита не знала, простит ли Господь ей все это. Когда она исповедовалась и требовала, чтобы священник пообещал, что она попадет на небеса, он обычно говорил, что в ее случае нельзя знать наверняка. Из-за чрезмерной блудливости на ней лежал смертный грех, и все зависит от того, в каком настроении будет Бог в день, когда Ховита предстанет перед ним. Ведь у Господа тоже бывают хорошие и плохие дни. Разве в книгах не написано, что после сотворения мира Ему пришлось отдыхать из-за сильного утомления? Так вот, в некоторые дни Бог уставал, или ему было скучно, или ему надоела вечность. От Его настроения зависело милосердие. Так что дело Ховиты было в руках случая. А мысль о том, что судьба склонится в сторону чистилища, приводила ее в ужас. Ховита представляла себе чистилище как очень темное место, где все время идет дождь, вода по щиколотку, дует ветер и холодно, а ей совершенно не хотелось оказаться в подобном месте. Конечно, из чистилища можно выйти, но для этого нужно, чтобы за твою душу много молились. А кто будет молиться за Ховиту? У нее не было денег на то, чтобы заказать хотя бы сотню молебнов, которые гарантировали бы спасение души. Она слышала, что так делают богачи, чтобы попасть на небо. А что касается ее детей, Ховита сильно сомневалась, что теперь, когда они живут в Европе, и у них столько всего есть — машины, квартиры и дорогая одежда, и даже много пар обуви, чтобы менять ее в зависимости от погоды или под одежду, — они все еще помнят о Боге и ходят в церковь. Ведь они даже не вспоминали о ней и писали лишь на Рождество короткие письма, которые Ховите зачитывал кто-нибудь из тех соседей, что ходили в школу. Четверо ее детей никогда больше не возвращались на Кабо-Верде с тех пор, как уехали. Нет, на своих детей Ховите нечего было рассчитывать.