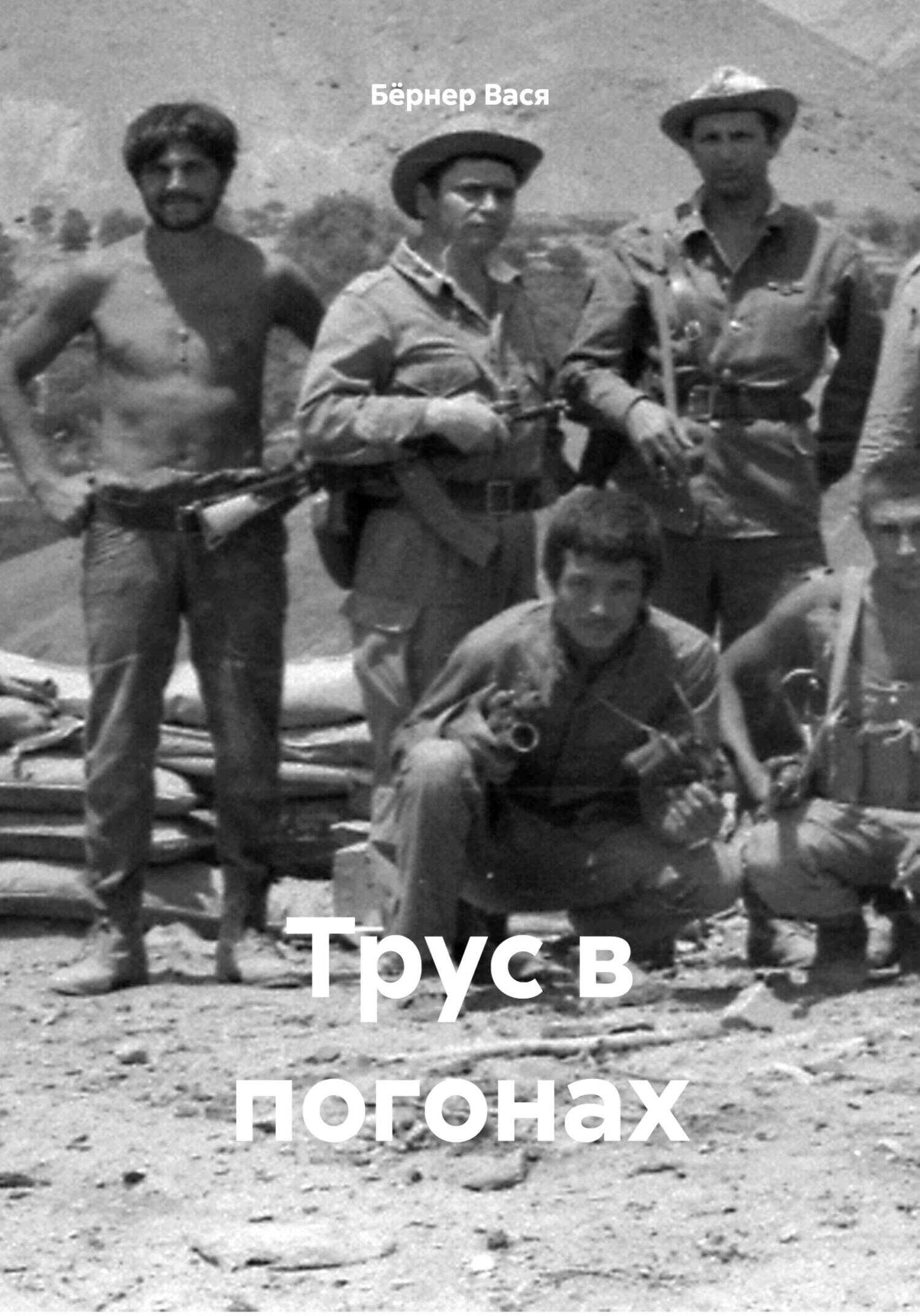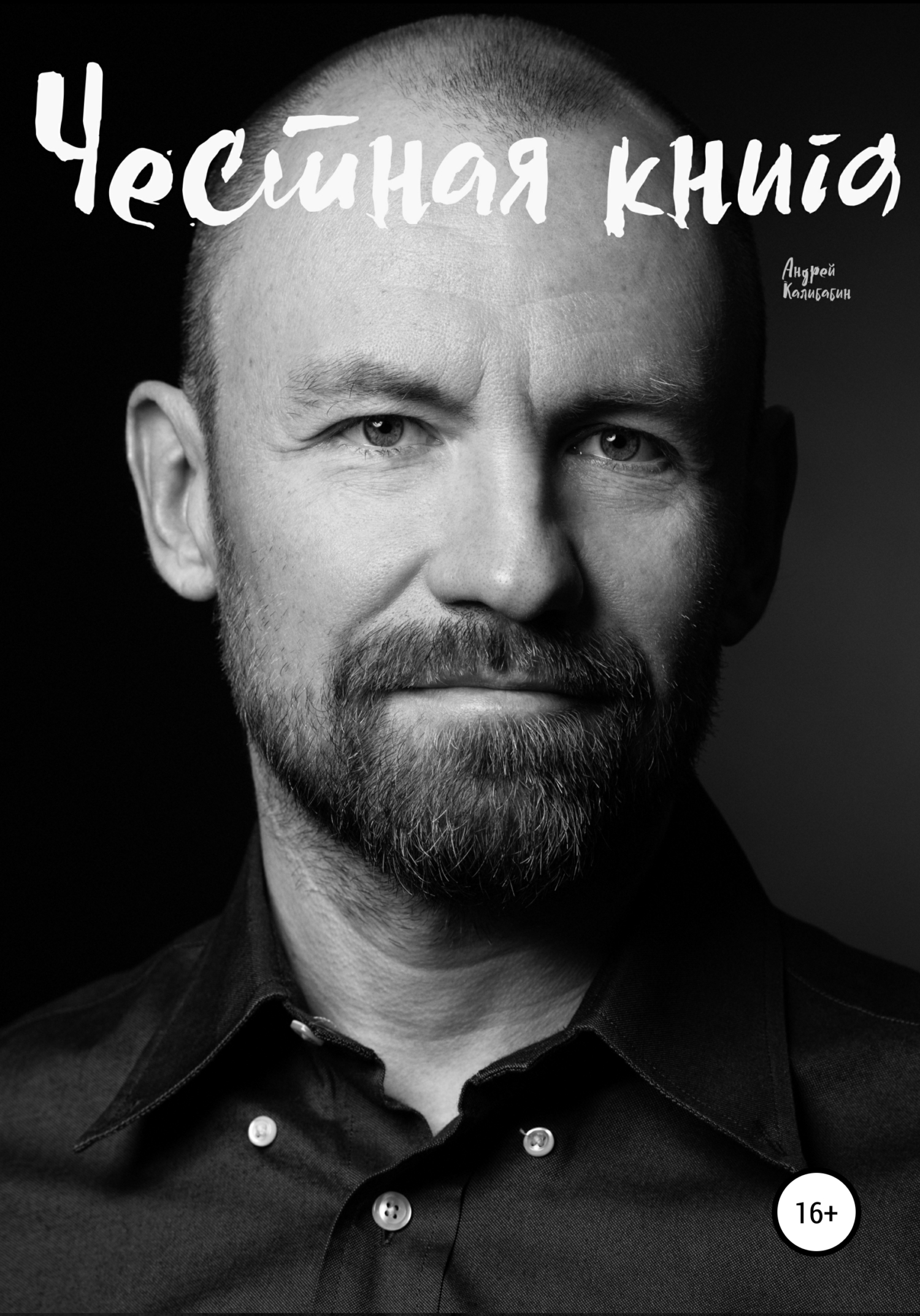опять наклонился, разрыл обеими руками шуршащий ворох соломы: мертвец взглянул на него широко раскрытыми остекленевшими глазами… Семенов в ужасе увидел свое застывшее белое лицо, свои снежные усы и короткую бороду, кровавые волосы на голове примерзли концами к рассеченному лбу…
— Ах, боже мой! — пробормотал Семенов. — Боже мой! Кончено все!
Он быстро закрыл труп соломой, оглянулся на пустую дорогу, бухнулся в сани, крикнул на лошадей — те понесли…
«Удирать надо! — опять подумал он с тоскливым страхом. — Ведь заберут, как пить дать! Хоть самого себя убей, им все одно! Все равно расстрел! А не убивать я тоже не мог. Нельзя было не убивать! Ибо эта моя откровенность — воспоминания эти, мысли — хуже убийства! Нет, бежать надо, заехать в тайгу подальше, спустить его в прорубь…»
Он глубоко вздохнул.
Лошади уминали брызжущий снег копытами, тяжело дышали морозным паром. Суетливо мелькали слева занесенные ели, замерзший Вангыр красиво и плавно петлял справа — под берегом. Вон и палатка стоит, покрытая снегом, — на белой поляне, где он осенью рыбу ловил… Странно, однако: почему палатка все еще тут, на замерзшей реке? Разве он не уехал отсюда вместе с палаткой — тогда, в августе? Может, чужая это палатка? Нет — его палатка! Точно на том же месте стоит. Возле пяти берез, только березы голые… Там — под ними — ручей должен быть, сейчас его под снегом не видно. А вон и скалы знакомые… Странно!
Палатка медленно скрылась за поворотом реки. Опять потянулись пустые заснеженные берега, мелькала стволами и сучьями тайга.
Вдруг Семенов с удивлением увидел впереди высокий монастырь — зубчатая красная стена изгибалась по склону холма к реке, над ней уходили вверх серые строения — таяли в небе — золотые купола ушли крестами в тучи. «Это еще ничего — забытый монастырь! — пронеслось в голове. — Да и все равно — деваться-то некуда!»
Через минуту он остановился возле каменных ворот — заглянул в них и понял — в монастыре живут: снег во дворе утоптан, его пересекают темные тропинки, порхают под карнизами голуби, а вон и окошко слабо светится дрожащим светом… неужто монахи?
Какой-то высокий старик шел, прихрамывая, наискосок через дорогу — вверх от реки.
— Дед! — крикнул Семенов.
Старик подошел. Он опирался на палку: худой, длинный, с клочковато-рыжей бородой, цвета куполов. Глаза смотрели подслеповато-слезяще.
— Монастырь тут, что ли? — спросил Семенов.
— А как видишь! — ответил старик тоненько.
— Монахи живут?
Старик захихикал:
— Какие те монахи? Монахи давно не живут!
— А свет вон — в окошке? — Семенов указал кнутовищем в ворота.
— Так то ж учреждение! — строго сказал старик. — Милиция тута.
«Вот те на!» — внутренне охнул Семенов.
А старик вдруг посмотрел на него пронзительно: куда слепота подевалась!
— Что везешь-то?
— Да так, — с замиранием сердца, нехотя ответил Семенов, стараясь сказать это по возможности безразлично, и тронул вожжи.
— Стой! — завопил старик.
Семенов со всей силы хлестнул коней — снег взвился — помолодевший старик сразу отстал в метели — но все еще бежал следом, кричал: «Стой! Держи его! Убивец!»
Оглянувшись, Семенов увидел, как вдоль ограды монастыря забегали тени, какие-то фонари — или факелы, — коптя, сгущая сумерки, заколыхались ему вдогонку…
Он колотил и колотил коней, уносясь в наступающую ночь, понимая, что теперь ему все равно конец…
Тут он всегда просыпался, радуясь в первый миг, что это только сон. Лежа в кровати, усталый и разбитый от этой погони во сне, Семенов понимал, что зарезанный — это он сам, его двойник, его второе, правдивое «я»… Все сомнения, которые он мечтал высказать людям, все вопросы, которые мучили, — о самом тайном, сокровенном, правдивом, о всей жизни — своей и других. Но хоть сон и кончался, а страх перед мертвецом не проходил — словно еще кто-то видел этот сон и понял его… Да и сон-то уходил, а проклятые вопросы оставались!
Всю жизнь преследовал его этот сон — в разных вариантах: то вместо подводы удирал он со своим трупом на поезде — то на лодке через огромное пустое озеро — то пешком, таща труп на спине, — но всегда в конце была милиция… и всегда он ускользал от расплаты, просыпаясь…
20
Семенов лежал поверх спального мешка на спине и смотрел в брезентовый потолок, по которому дождь барабанил. Он повернулся на бок… и тихо открылась дверь в полутьме комнаты, и вошла натурщица Лида — самаркандская.
Лицо у нее было вполне обыкновенное — круглое, курносое, в прыщиках, — но когда она снимала ситцевое платье и всходила на помост перед мольбертами — тогда лицо этой простой русской девушки забывалось, она становилась богиней! Это была даже не Лида-натурщица, это была Вечная Женственность! Само Совершенство!
— Откуда ты, Лида? — спрашивает Семенов. — А училище?
— Не пошла сегодня, — говорит Лида. — Скажусь больной.
— Хочешь — большой свет включу, порисую тебя? — говорит он обрадованно. — Тройка у меня по натуре, надо бы поупражняться.
— Упражняйся, если хочешь, в кровати, — отвечает Лида. — Устала я. Спать хочу. Но поесть сперва надо… что у тебя найдется закусить-то?
— Кусок лепешки только, — говорит он смущенно. — Да вода вон… свежая… Скоро стипендия будет.
— Ох, надоели вы мне, студенты! Как вы только существуете? И все-то тебе рисовать меня надо! Будто скульптура я, а не живой человек! — она возмущенно снимает с себя тонкое ситцевое платье.
Она всегда так ходит — в одном платье на голое тело — благо жара… да и промозглой самаркандской зимой она тоже в этом платье. Закаленная. Разве что платок накинет.
— Красивая ты! — любуется он. — Венера Милосская! Дай — порисую!
— Жестокие вы люди — художники! — мрачно говорит Лида, ныряя к нему в кровать. — Уйду я от тебя… между прочим: там у меня в кармане три рубля, — добавляет она. — Возьми утром.
— Я ж тебе растолковывал, — обижается он. — Пойди куда-нибудь к подругам, поешь… у меня пусто… стипендию жду… А рисовать мне всегда надо, такая уж моя жизнь!
— Не жизнь это, — говорит она и сразу засыпает.
Он лежит рядом и думает: у кого бы денег занять? Перебирает в уме однокурсников… нет, никто не даст. Кто может, те уже дали. «Вот положение! — думает он. — Есть Богиня, так прокормить ее нечем!» Он откидывает одеяло и смотрит, как она спит. Ровно колышется идеальная грудь… Идеальный живот… Идеальные ноги…
Эта Лида живет как птица небесная. Он часто, лаская, называл ее кукушкой. Кукует то у него, то неизвестно где. Ревности у него не было, ревность денег стоит. Подло это, конечно, — что ревности нет, — но такой уж он человек, и она это знает. Если ревновать, то надо училище бросать, идти работать, вить гнездо… Не здесь же ему вить гнездо — в Самарканде, — он здесь птица перелетная — его гнездо