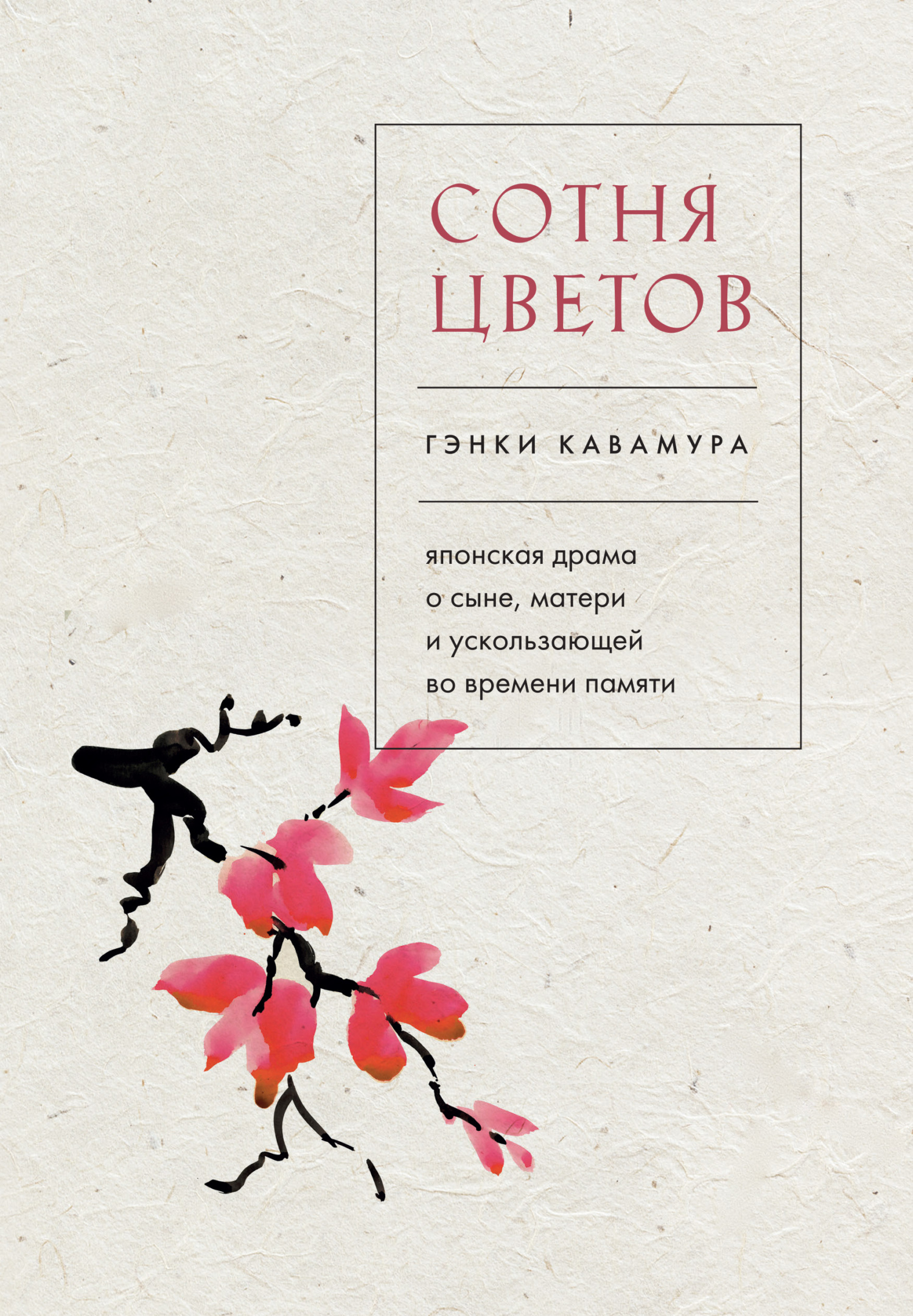Ну, ладно… В общем, у твоей невестки пестрый язык. Да. Поняла? Это не к добру. Говорят, злой дух один раз в сто лет так метит какую-нибудь бабу. Черную печать на язык кладет. Чертова избранница. Вот и твоя невестка такая, она любому навредить может, если захочет. Молния не успеет блеснуть, как навредит…
- Ехэ-абгай… - Ханда почувствовала, как у нее перехватило дыхание, похолодели руки. - Кто, какой глупый бездельник оговорил мою невестку? Я бы своими руками вырвала его поганый язык.
Ханду душили гнев, страх, боль, ее начала бить дрожь… Кто посмел так обидеть Жаргалму?
- Ханда, ты на много лет моложе меня, слушай и не возражай, - сурово продолжала Ехэ-абгай. - Ты видишь, я в такую жару тащила к тебе эту копну своего мяса и жира… Если бы это были только сплетни, не пошла бы. Но ведь все говорят, каждая собака лает про твою невестку… Все в улусе, как молитву, твердят. У всех языки не вырвешь. Лучше вырви пестрый язык у невестки. С потрохами вытащи. И прогони домой, пока она дитя не родила, если родит, выгнать труднее будет. А сейчас что… Отправь домой будто погостить, и все. Улусники не желают, чтобы она у нас осталась. Сын другую жену приведет, за него любая пойдет. Шапкой махнет - десять невест прибегут с десяти разных сторон. Если хуже этой будет - не горюй. Пусть больше съест, дольше поспит, пусть хуже сошьет, не так вкусно сварит. Не беда, потом научится делать как надо, хорошей бабой станет. Только бы язык у нее был, как у всех людей, не пестрый. Поняла ты или не поняла?
Ханда долго молчала, потом снова принялась защищать свою невестку, но уже не так уверенно, без прежнего жара.
- Мне другой невестки не надо. Второй такой хорошей не найти. Ну, отправим ее домой, а потом что?…
- А что в твоей Жаргалме особенного? Ничего нет, - решительно возражала старуха. - Привыкла ты к ней, и все. Слушай, что говорит народ. Худая молва… Она разнеслась на четыре божьи стороны про пестрый язык… Теперь не остановишь, как пожар весною в степи, когда ветошь горит. Кто погасит, если черный ветер подхватил и понес огонь?
Теперь Ханду сковывала уже не боль, не внезапность страшного известия, а бессилие. И какой-то неприятный тлеющий в груди уголек сомнения… Неужели Норбо досталась такая грешная жена, отмеченная шолмосом - дьяволом?
- Ехэ-абгай, вы Жаргалме не говорите, - растерянно попросила Ханда. - Убьете ее, если скажете. Ой, жалко мне ее… Хорошая невестка, лучше, чем у других… - Ханда не смогла сдержать рыданий.
- Не реви, - строго сказала Ехэ-абгай. - Слезами не поможешь. Бабы всегда плачут, а толку нет. Не скажу я ей ничего. Я и видеть ее не хочу… Я с нею у одного очага руки греть не стану. Ее все вокруг боятся, ну и я тоже побаиваюсь.
Охая и ахая, упираясь руками в пол, старуха поднялась на свои толстые ноги. Ехей-абгай не сомневалась, что Хайда и Норбо подумают над ее словами.
Пока шел этот разговор, Жаргалма па голом лобастом бугре собирала кизяки. Она уходила все дальше и дальше, поблизости все было собрано, каждому нужны кизяки на дымокуры, отгонять гнус от коров. Некоторые кизяки еще не высохли, не затвердели, над ними гудели жирные зеленые мухи. Жаргалма перешла на другой бугор - Хара Добо. Неподалеку от нее собирал кизяки лохматый босой мальчуган. Он притворялся, что не замечает Жаргалмы, а сам следил за нею глазами. Жаргалма видела это, и ей было смешно.
- Мальчик, как тебя зовут? - дружелюбно спросила она.
- Меня? Бадмой, - охотно ответил мальчуган. - Вот хороший кизяк, сухой, как трут. Берите.
- Ты себе собирай, зачем мне даешь! - рассмеялась Жаргалма.
- Я вас боюсь. Вы не сердитесь на меня, ладно? Я вперед вас не забегаю. Кизяки не перехватываю…
- Боишься меня? - удивилась Жаргалма. - Почему? Разве я страшная, злая? Кого я обидела?
- Нет, нет… Вы не страшная, вы добрая. Люди зря говорят…
- Люди говорят? Обо мне? Что же они говорят?
- Ну, так… Боятся, чтобы вы их не изругали. Если кого изругаете, он заболеет. Захотите, чтобы я ослеп, я слепой стану… Как тогда домой дорогу найду, как с ребятами играть буду? Или скажете, чтобы ноги у меня отсохли… Ой, тетя Жаргалма, не надо! Не говорите так, у вас ведь пестрый язык, все сбудется, что захотите… - В голосе мальчика были слезы и страх.
Жаргалма вдруг перестала понимать, явь это или жуткий сон. Между солнцем и землею поплыли, помчались лохматые черные тучи. Кизяк в руке стал тяжелым, точно каменная глыба. Мешок выпал из рук на землю, Жаргалма без сил опустилась возле него. У нее в голове все спуталось, смешалось… Она сорвала сухую травинку, обрезала ею пальцы, но не почувствовала боли. Взяла в губы горький-прегорький лист, но не ощутила горечи. Голова стала пустая, точно гнездо, из которого вылетели все птицы - веселая, шумная стая… И сразу наступила тишина. Нет, что-то назойливо стучит в висках, вот стремительно закружились тяжелые, скрипучие жернова. Ой, как кружатся… Голова не выдержит, развалится. Кто-то рядом надсадно кричит: «Тебя все боятся, тебя все боятся!» Жаргалме вспомнился костлявый, вислоусый старик в сарае, его трусливые глаза. «Он тоже испугался меня, моего пестрого языка. Боится, как бы я не сделала зла».
Жаргалма сначала не плакала, слез у нее не было. Глаза сухие, в горле все словно перегорело. Кажется, и кровь из жил испарилась. Но вдруг Жаргалма судорожно, громко разрыдалась. От обиды, от незаслуженного оскорбления, от бессилия… Зачем она родилась на свет слабой женщиной? Ведь некому даже утешить ее… Никто не захочет разделить с нею горе…
Бывает, что на стене юрты укреплен найденный где-нибудь осколок зеркала. Хозяева всегда знают, в какой час дня на него через дымоход попадут солнечные лучи. От зеркала они падают на пол, дрожат, переливаются, как расплавленное серебро. А то покажется, что кто-то зачерпнул ковшом золота и расплескал возле очага… Вот малыш увидел солнечных веселых зайчиков и уже шлепает ручонкой по переливчатой золотой лужице. Но вот досада: нет золотистых брызг, не слышно звонких озорных всплесков. Нет и настоящего удовольствия малышу. Он хочет поймать сверкающего зайчика, зажимает горсть и тянет ее ко рту. Но в руке ничего нет, пусто…
Все доброе, хорошее, что Жаргалма увидела за