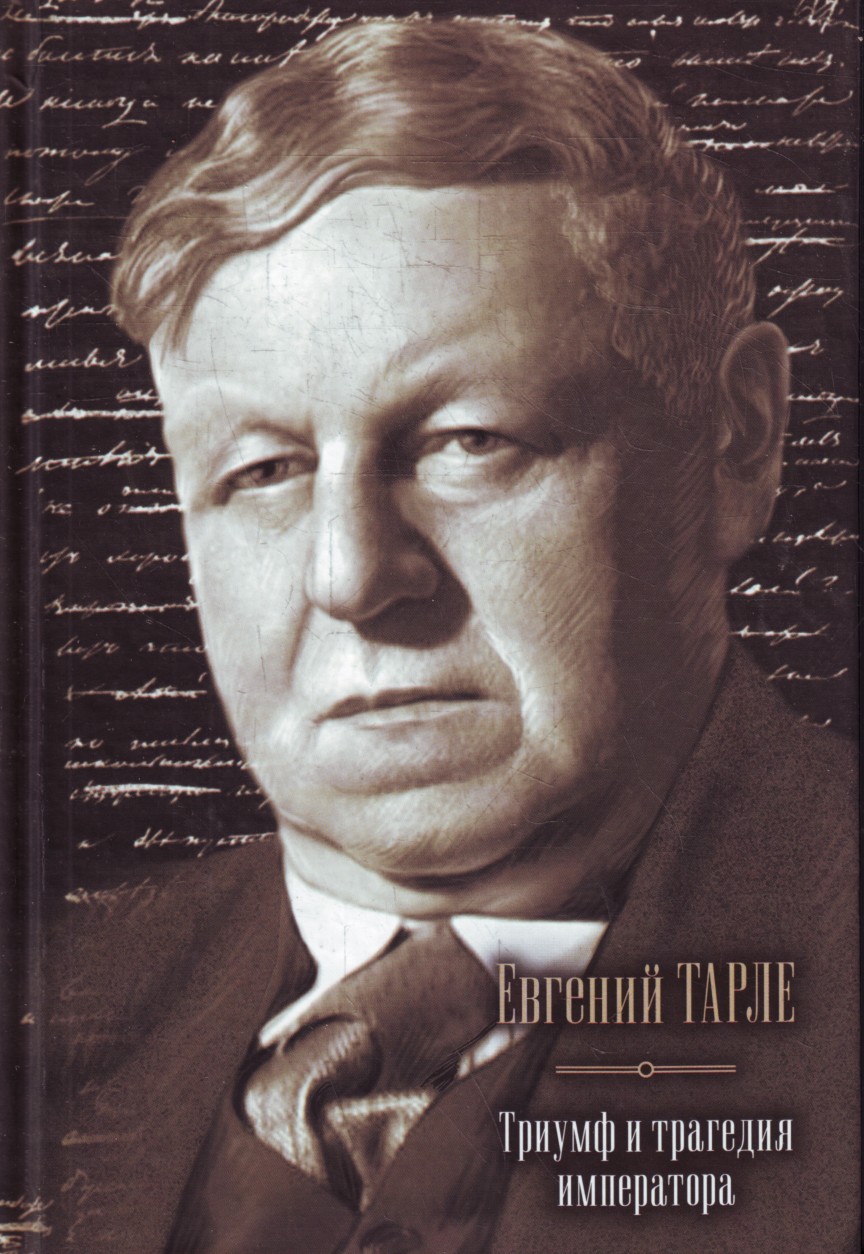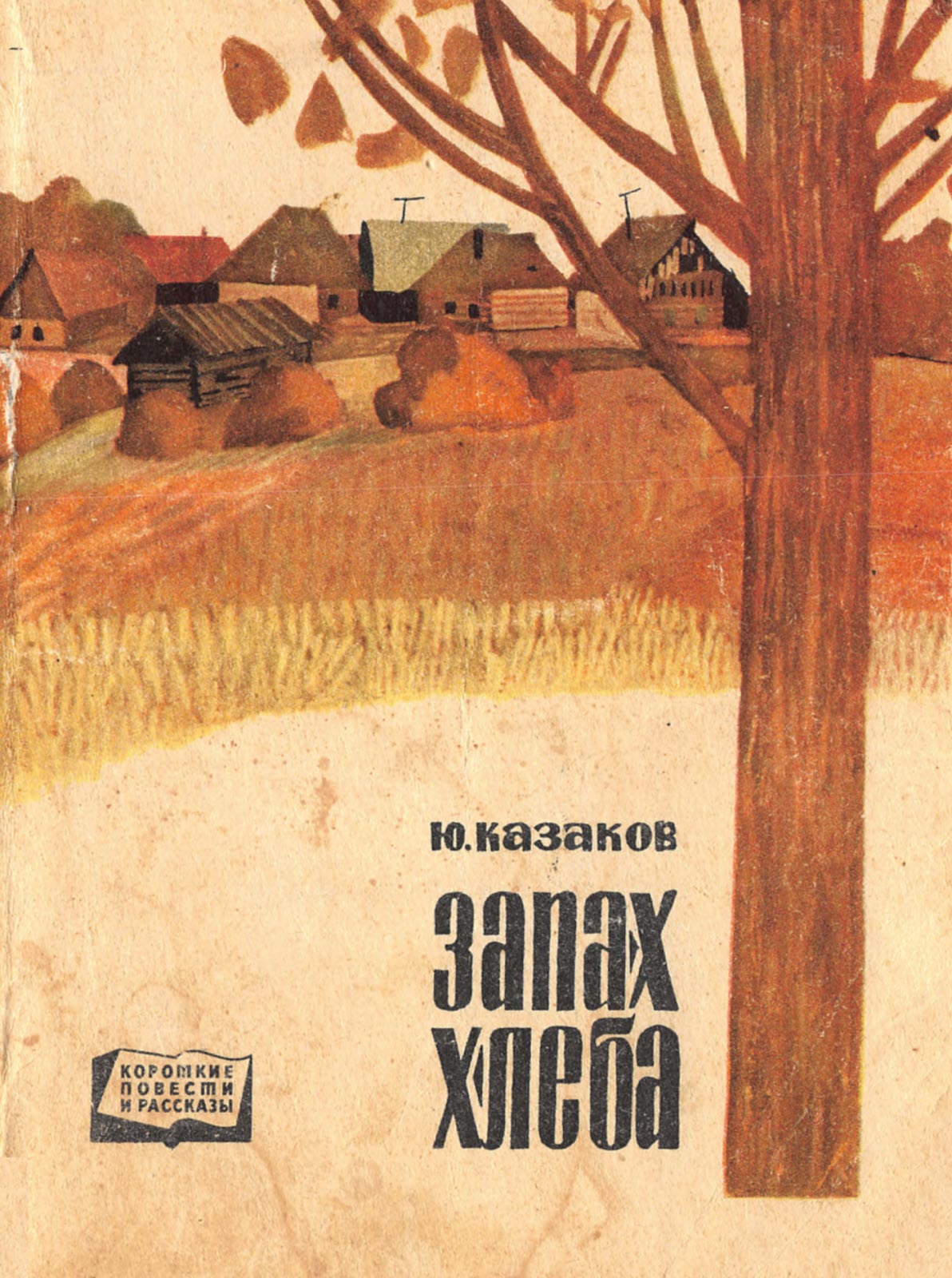мама, затрещав каблуками по ступеням.
Она долго маячила у забора во дворе и рвала карточки на мелкие части. Весь вечер в маме ощущалась неловкость. Но не ее же, в конце концов, фотографировали?!
Укладываясь в постель, мама сказала:
— Ты взрослый мальчик и теперь будешь спать отдельно.
Раньше я ложился с сестренкой валетом. Теплее в промозглые эвакуационные ночи. Отдельно так отдельно. Я не возражал. А сестренка расхныкалась и, протестуя, не засыпала до полуночи.
19
На семейном совете мы решили разведать, где Шапошниковы. Роберт наверняка в курсе, кто разворовал наши вещи, и вообще, что к чему. Степан — средний сын Марии Филипповны — работал сантехником в домоуправлении. Я и Роберт сидели с первого класса за одной партой на камчатке. Роберт — второгодник, считался переростком. Я — тихоня-отличник, зубрила-мученик, по мысли учительницы Зинаиды Ивановны Иванченко, обязан был влиять на него положительно.
Я обрадовался, что мама без особых уговоров согласилась пойти к Шапошниковым. Она никогда не симпатизировала Роберту, а весной сорок первого просто возненавидела, когда дневник мой наводнили «по́сы». Мы бегали за старшими ребятами на Днепр к Цепному мосту, где у быков ершики ловились погуще, «конали» на фильм «Большой вальс» через дыру в ограде летнего кинотеатра на Владимирской горке, возвращались с прогулок очень поздно и охотно принимали деятельное участие в прочих небезопасных шалостях — жгли целлулоидную пленку в «жабках», обламывали кусты сирени в саду Лечсанупра, набивали отверстие ключа спичечной серой, затыкали гвоздем и с маху лупили по стене.
Спасибо Роберту, он основательно подготовил меня к жизни в эвакуации. Иначе бы пропал. Местные бы мальчишки затюкали. А мама, не чуя, конечно, что нас ожидало впереди, настаивала на дружбе с тщедушным Сокольниковым, отпрыском композитора и учеником третьего класса музыкальной школы Бертье и Магазинера, соперничающих с самим Столярским — всесоюзной знаменитостью из Одессы.
— Игорек получит лучшее образование, чем дают у Столярского, — развешивая на веревке необъятные розовые трико, хвасталась жена композитора, которой нехуденькие торговки на Бессарабке кричали вдогонку: «Упитанная дамочка! Вернитесь, посчитаемся!» — Бертье с ним индивидуально занимается. Они теперь Генделя проходят.
Вечно пьяный полотер Фролычев, драивший паркет во дворце, который некогда принадлежал вдовствующей императрице Марии Федоровне, в музее Кобзаря и у Дранишниковых, определял Сокольникову более выразительно: толстая хевря, туды ее мать! И жаловался управдому Борисоглебскому: обманули меня, буржуи проклятые, замотали бутылку!
Мама, конечно, не была в курсе подробностей. Она слушала про успехи Игорька как завороженная и восхищалась Столярским, Бертье и Магазинером вместе взятыми, несмотря на то, что слова про Генделя вызывали у нее улыбку. Не подумывала ли втайне она отправить меня в Одессу? Говорили, что Столярский открывает способности вовсе не у тех, у кого их ожидают. Вдруг у меня слух тоньше, чем у сына композитора? До войны родительский мир помешался на Столярском и его питомцах. Столярский, Столярского, Столярскому, о Столярском — на разные лады твердили обалделые от несбыточных надежд мамы и папы. В газетах часто печатали сообщения о грандиозных победах малолетних талантов на всяческих конкурсах. Из уст в уста передавалась легенда, как самый любимый ученик, которого звали Додиком, во время болезни учителя играл ему, а умиленный и взволнованный Столярский просил «еще чего-нибудь такого!». «О, Додик — вундеркинд! — восклицали доморощенные знатоки. — Сам Столярский просит его бисировать!» И мама, сломив сопротивление, дважды водила меня «на Додика». Когда на афише потом мелькала знакомая фамилия действительно выдающегося скрипача, я обязательно брал билет в концерт. В зале за короткое время, пока я находил кресло и усаживался, у меня в голове возникала ласковая — довоенная — мелодия детского имени Додик, и я повторял мысленно лысоватому, полному, что-то торопливо дожевывающему человеку на эстраде фразу из легенды: «Сыграй еще чего-нибудь такого!»
Сокольников теперь заведует корректорской в техническом издательстве.
20
По петляющим между грудами развалин тропам мы добрались до флигеля, где обитали Шапошниковы, — в переулке рядом с университетской клиникой. Из-под квадратной арки на нас взглянули в упор опаленными глазницами окон старые каменные конюшни. Путь к ним преграждали неизвестно откуда взявшиеся здесь бревна и «фряги» — прочно сцепленные цементным раствором два-три десятка кирпичей — обломки стен. Их и танком не раскрошить. Мама, опасаясь мин, первая преодолела препятствие, но если бы рвануло — и нам бы с сестренкой несдобровать. Смешная мама.
На почти оторванной двери — будто лацкан пиджака после драки — белел лист. Мама едва разобрала: Шапошниковы, Правительственная… Чернильный карандаш потек от дождей. Затем мама сорвала адрес и почему-то с отвращением швырнула его на землю. Она подняла осколок кирпича и переписала название улицы на штукатурке. Пока она возилась, я перелез через бревна, подкрался к окнам полуподвала и спрыгнул в неглубокую бетонированную яму.
До войны я стыдился того, что жил богаче Роберта. Весенним утром с нашего пятого этажа открывался серебристо-дымчатый вид на лесное заречье, грудастые золотые купола собора и розовые уступы свежепокрашенных крыш. А окна Шапошниковых выходили на торец дровяного сарая. Однажды, когда мама читала вслух «Дети подземелья» Короленко, я завел разговор о переселении Роберта в мою комнату. Мама отложила книгу и принялась довольно пространно объяснять, почему это невозможно. Показалось неубедительным. С той поры, однако, в гостях у Шапошниковых я боялся, что дверь вот-вот отворят и на меня набросится с упреками, как грозный Тибурций, сантехник Степан.
В некогда сухой и теплой комнате теперь мокро, черно, как в открытой могиле после дождя. Пол сорван. Между трухлявыми, изъеденными балками нефтяным блеском отливает густая жижа. Донизу свисают обои позеленевшими от плесени языками.
В моем уме вдруг всплыла траншея и желтый ряд гробов перед зданием райисполкома.
21
Платформы с танками загнали в тупик. Чтобы поскорее выяснить, когда нас отправят дальше, мама упросила Сарычева и Хилкова пойти на разведку. В сквере у вокзала мы наткнулись на жидкую толпу. К постаменту с щербатым от пуль словом «Сталин» приставили табуретку. На нее взгромоздился человек в военном кителе. Он что-то говорил, но что, не разобрать. Потом мы двинулись в толпе к центру станции, и вот тогда на площади я увидел сосновые гробы, в которых лежали тела, похожие на маленькие тряпичные матрешки. Одежда прилипла к трупам, опала, сморщилась. Свернутые набок головы и босые растопыренные ступни были закрыты длинными кусками рядна, ослепительно белеющего под голубым небесным светом.
Хилков поднял меня на локтях, как учитель физкультуры Онищенко в спортзале, подсаживая на турник.
— Смотри, что творят с колхозниками фрицы, — сказал он.
Сарычев недовольно оборвал:
— Зачем божью душу травишь?
— Пусть, —