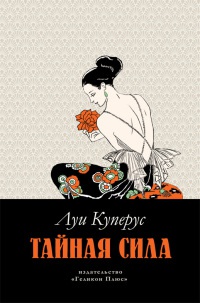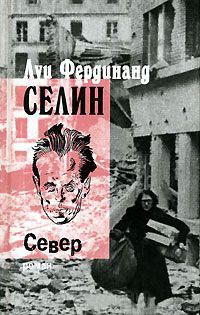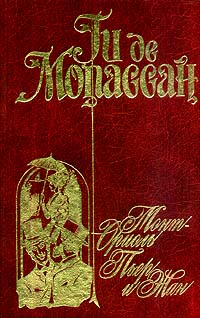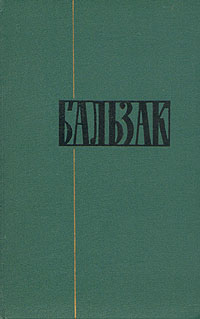class="p1">И вот уже просачиваются критические замечания: это хамелеон, у него нет никакой индивидуальности, никакого стиля. И другие, более коварные, начинающиеся со слов разумеется, он само совершенство, но. Хочется, чтобы он определился. Желательно, чтобы он выбрал. Ведь надо отнести его к какой-нибудь школе (а их у него десяток), привязать к каким-то предпочтениям (а он всеяден), вместить в какие-то рамки (а их у него, похоже, нет). Будь он утонченным эфебом, можно было бы выкрутиться, объявив его ангелом; будь этот уродец высечен резцом из камня, а не слеплен из теста, ему приписали бы договор с дьяволом: толика сверхъестественного, даже чисто метафорически, устроила бы всех.
В Москве, на Большой Никитской, по окончании более или менее публичных занятий его поджидают девушки. Славянские красавицы, очаровательные блондинки, с водяными глазами, восхитительный разрез которых тянется к вискам. Привлекательность таланта и парижских перспектив оказывается сильнее, чем отвращение при виде уродства. Они отдаются ему с прохладцей отстраненно. Они ведут себя, как он — перед инструментом: им подходит все. Ему больше всего нравится сложная и сочная гармония, которая возникает между по-заячьи щуплыми талиями, спинами с выступающими позвоночниками и лопатками — и внезапно сменяющими их то тут, то там округлостями. Их позвонки как клавиши, а ребра как струны; когда он, чуть отдаляясь, смотрит на них, то видит сонаты, которыми овладевает, познавая формы, мелодические линии и богатые созвучия. В постели это также сонаты: первая часть, в которой властно заявлено общее настроение, затем адажио вздохов и финальное виваче, ибо надо все же чуть ускорить темп, кончить со всем этим и вернуться к роялю.
У них красивые голоса, нежные и низкие.
Они быстро отступаются, когда понимают, что он никогда не сподобится ни запомнить их имена, ни предпочесть их разучиваемому отрывку.
Московская жизнь ему нравится.
Когда уже все ступени пройдены, все препятствия преодолены и вновь оказываешься в Париже, — где русские девушки хоть и не отсутствуют, но встречаются реже и стоят дороже, — приходит время создавать себе имя в музыкальном мире.
VI. Сад Астрид
Поскольку теперь вы уже не боитесь трогать тело нашего распростертого товарища, поднимите ему веко. Как вы можете заметить, глаз утратил свою прозрачность. И вам не терпится узнать, почему эти очи, некогда столь живые, ибо так живо поглощали свою ежедневную порцию нотных знаков, отныне решительно угасли. Дело в том, что их заполнил калий; чтобы стекловидное тело — объясняют нам ученые — оставалось прозрачным, в нем должно быть очень мало ионов (ион калия — экие мы невежды!— это такой большой катион). После смерти клеточная мембрана, утрачивая былую непроницаемость, начинает постепенно пропускать ионы, которые попадают в стекловидное тело и делают его мутным. Вот почему.
Так, в течение недели ионы калия мигрируют в стекловидное тело. На этом, кстати, основан весьма несложный и наиболее точный метод датировки смерти. Следующая манипуляция мне очень нравится, дозвольте мне совершить ее самому. Передайте мне, пожалуйста, тот шприц. Следите внимательно за моими действиями, вы сможете повторить их, когда следующий труп достанется вам. Я втыкаю иглу в уголок, сюда, в мышцу глазного яблока. Я знаю, в первый раз у всех складывается впечатление, что для пациента эта операция окажется крайне болезненной, но не забывайте, пожалуйста, с кем мы имеем дело. Я очень аккуратно делаю пункцию (кровь и ретинальные клетки не должны примешиваться к забираемой пробе). Мадемуазель, отправьте это в лабораторию. Они знают. Они будут взбалтывать, гомогенизировать, использовать ионоселективные электроды, это уже не наша работа. И через несколько часов, но все же не меньше восьми-девяти, измерив концентрацию калия, они скажут нам, сколько времени назад несчастный испустил дух. В этой информации мы вообще-то и не очень нуждались, нас влекла, разумеется, одна лишь жажда познания. Ответ лаборатории только подтвердит наше предположение: приблизительно шесть с половиной дней истекло с того момента, как музыка была окончательно избавлена от воздействия неотразимого Поля-Эмиля.
Хотя, возможно, не совсем. Слух, в сто крат чувствительнее нашего, мог бы в непосредственной близости различить тысячи слабейших звуков — шипение, урчание, бульканье, — которые производит разлагающаяся плоть. Настоящая конкретная музыка, но ей явно недостает творческой и организаторской человеческой воли. Это уж точно. Но для неподготовленного слушателя она не менее приятна, чем шум ласкового сентябрьского ветерка в старой осиновом парке. В обиходе подобное шептание также называется музыкой. И в этом смысле Поль-Эмиль — музыкант до кончиков ногтей, до мозга костей — музыкален не больше и не меньше, чем вы или я, когда придет наш час.
В музыкальном мире важны два-три конкурса, не более.
А единственный мир, который принимается в расчет, это мир фортепианный, мир пианистов.
Конкурсы трудны, потому что на кон ставятся гениальность или талант, слава или репутация, королевский Альберт-холл или театр в Обюссоне. Жизнь или смерть.
Участвующие в них пианисты исчерпали всевозможные премии, выше этой ничего нет. И теперь живут в ожидании конкурса, который проходит раз в пять лет. У них один шанс из двадцати. Если они его пропустят, то уже навсегда.
Они прилетают со всех континентов. Музыка не смягчает нравы: музыканты ненавидят друг друга с первого взгляда. Конкурс длится две недели. Через две недели один из двадцати прикончит остальных. Понятно, почему чувства не отличаются благожелательностью. Каждый делает вид, что интересуется остальными, их карьерой, их учителями, успехами. Но лишь для того, чтобы их разоблачить или сокрушить их же сомнением в собственных учителях и успехах.
На две недели их запирают в красивом загородном имении. Комнаты светлые и очаровательно старомодные. Шкафы приятно пахнут пчелиным воском и черешневой древесиной, выбранные со вкусом гравюры на стенах имеют более или менее явное отношение к музыке: портрет Брамса или Маргарита за прялкой. Кровати высокие. Резвиться в них никто не будет, разве что в одиночку, даже если с каждым конкурсом пианистки оказываются все более симпатичными, а пианисты — все менее дряхлыми.
Здание достаточно просторно, чтобы вместить двадцать однокомнатных звукоизолированных номеров с двадцатью одинаковыми инструментами. В театре, восхитительном кондитерской царстве рококо, их ждет конкурсный рояль. Одни номера расположены на втором этаже, другие — на четвертом. Распределение стало предметом тайной и ожесточенной борьбы, поскольку одни считали, что подъем на два лишних пролета обеспечит им прекрасную мини-гимнастику, гарантирующую хорошую форму в заветный день; другие — что следует, напротив, экономить силы и оберегая предплечье, не перегружать ложки за десертом.
Один из этих двадцати номеров так и не будет обжит, зря потратились.
Замок — собственность то ли государства, то ли царствующей фамилии,