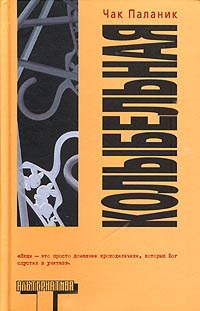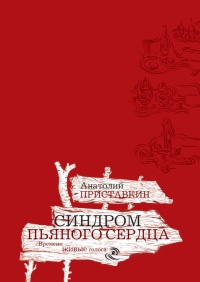Размышляю, что бы сказать в данной ситуаций. Я знаю, что не должен извиняться, потому что она сама мне изменила и бросила меня, не говоря уж о том, что кинула мне в лицо собачье дерьмо.
— Извини, — говорю я. И еще раз: — Извини.
Становится только хуже: она начинает есть землю.
Ложусь рядом с ней: я — столовая ложка, она — чайная.
— Дай понюхать твои пальцы, — говорит она, хлюпая слюной.
Она берет мой указательный палец и принюхивается.
— Ничего не чувствую.
— Понюхай костяшки.
Она нюхает их по очереди.
— Я рада за тебя, — говорит она.
— Что случилось с твоим парнем?
— Ничего.
— Хм.
— Его зовут Дэйфидд. Он бы тебе не понравился.
— И долго он не кончает?
— Какая разница?
Он же марафонец, есть чертова разница.
— Долго он не кончает?
— Оливер, я не могу тебе сказать.
Она уважает его. У меня скручивается живот. Она подносит мою руку ко рту. Чувствую на костяшках ее зубы.
— И кто эта счастливица? — спрашивает она с завистью. Мне становится приятно.
— Жиртрестка.
— Что за жиртрестка?
— Не помнишь жиртрестку? Она раньше училась в нашей школе. Толстуха. Кулебяка.
— Зоуи?
— Ага.
— Фу, она и правда толстуха, — говорит Джордана и начинает смеяться и фыркать сквозь слезы. Я не слышал ее смех уже несколько месяцев.
— Она уже не толстая, — замечаю я.
— Ну да, конечно.
— Я серьезно.
— А почему она вообще ушла? — спрашивает Джордана.
— Она похудела.
— Ее родителям показалось, что Дервен Фавр недостаточно хороша для их дочурки?
— Это потому, что мы столкнули ее в пруд.
— Она сама упала.
— Как это сама? Мы ее столкнули.
— Я ее не толкала.
— Ну да.
— У тебя что, стоит?
Я — столовая ложка. Нет, половник.
— Да.
— Ладно.
Пытаюсь понять, какой еще запах исходит из мусорки. Пахнет кровью.
Я принюхиваюсь лучше и вспоминаю, как мама один раз срезала верхушку среднего пальца ручным блендером. Вспоминаю запах пропитанных кровью кухонных полотенец.
— О черт! Фрида! — вдруг вскрикивает Джордана, встает на ноги и пятится.
Борзая лежит у меня в ногах и тяжело дышит. У нее в зубах маленькая уточка. Ее обвислая шея болтается, как тряпка.
— Олли, вставай!
Они назвали новую собаку Фридой.
Продолжаю неподвижно лежать на земле. Фрида подходит прямо к моему лицу и кладет утку рядом. Перья блестят, они слиплись от крови и слюны. В нос бьет резкий запах сохнущей болотной воды. Перья у основания крыльев пушистые, как у птенца, и похожи на вату, а на самих крыльях погрубее. Янтарный клюв неподвижен и раскрыт.
— Ты назвала ее Фридой.
— В память о Фреде, — говорит Джордана. — Господи, Олли, вставай!
— У тебя аллергия на собак.
— Знаю!
— Так зачем ты завела собаку?
— Встань!
— Думаешь, она заменит тебе мать?
— Моя мать не умерла!
— Так зачем ты завела собаку?
Фрида пододвигает мертвую птицу к моему лицу, точно хочет сказать: вот, это тебе. Я тронут. Грудь Фриды вздымается и сокращается, кожа ребер туго натянута.
— Так зачем ты завела собаку? — повторяю я. Очень хочу есть.
Язык Фриды торчит изо рта, как слишком большой ломоть ветчины из закрытого бутерброда.
— Потому что я люблю собак, — наконец отвечает она.
— Вот это да. — Такого ответа я не ожидал. Теперь я понимаю, почему влюбился в Джордану.
Я прихожу домой, когда уже давно стемнело. Родители смотрят телевизор.
Иду в чулан, открываю дверь и, вынув ключ из замка, шагаю в темноту. Запираюсь изнутри.
Делаю глубокий вдох. Мои рецепторы окутывают ароматы: фруктовый полироль для обуви, замшелые обувные щетки, сладкий и влажный запах кленового сиропа в большой канистре, как для бензина, и кисловатый привкус домашнего варенья из испанских апельсинов…
Комок пластиковых пакетов, которые мои родители копят всю жизнь, похож на большой кочан капусты, свисающий с внутренней стороны двери. В каждом пакетике еще один, в нем еще, еще и еще: из мебельного, мясной лавки, книжного, журнального киоска, аптеки, «Дэбенхэмс», «Сэйнсбери», «Теско», и так далее до бесконечности или числа, близкого к ней. Я начинаю понимать, что, если действительно хочешь покончить с собой, не нужна ни мегатонная пиротехника, ни бригада авиаторов, которые бы написали в небе твою предсмертную записку. Надо просто сделать это. Завязав вокруг шеи пакет из «Теско» в чулане, где не так уж много припасов.
Но я не хочу убивать себя. Я просто голоден.
Взяв с полки упаковку печенья «Барбор» со сливочным кремом, сажусь на плиточный пол, подтянув колени к груди. Это печенье славится тем, что открыть его практически невозможно. Пытаюсь отодрать крышку, поддевая пластик. Но у меня очень короткие ногти. Это бесполезно. Мне становится очень грустно. Решаю не мучиться с печеньем и беру маленькую упаковку шоколадного пудинга для микроволновки. Сорвав картонную упаковку, отклеиваю тонкую пластиковую крышечку и засовываю в баночку два пальца — внутри какая-то пена. Я съедаю ее быстро, орудуя пальцами, зная, что под муссом на дне баночки меня ждет шоколадный соус.
Живот пронизывает спазм. Мой желудок вспоминает, как переваривать пищу. Облизываю испачканные липким кремом пальцы. И вспоминаю Зоуи в старые добрые времена.
Я перестаю столь остро чувствовать себя несчастным, но внутри все еще как будто застрял комок. Однако я чувствую, что вполне способен его переварить.
Пытаюсь сосредоточиться на положительном. Случай с Зоуи сделал меня более проницательным. Теперь я буду сравнивать себя с ней до конца жизни. Каждый год отслеживать ее прогресс по Интернету и подсматривать за ней в бинокль. Это будет здоровая конкуренция.
Выпускные экзамены гораздо важнее моей первой любви. Которая все равно не будет значить ровным счетом ничего, когда мне исполнится сорок три. Джордана лишь отвлекала бы меня от подготовки. От выпускных экзаменов зависит, как сложится моя дальнейшая жизнь. При приеме на работу никто не спросит, поддерживаю ли я хорошие отношения с бывшей подружкой.
Джордана сказала, что ее мама здорова. И еще, по ее мнению, нам не стоит больше встречаться. Она посоветовала, если мне захочется с ней пообщаться, написать электронное письмо. А я ответил, что мне проще просто подкараулить ее в парке.