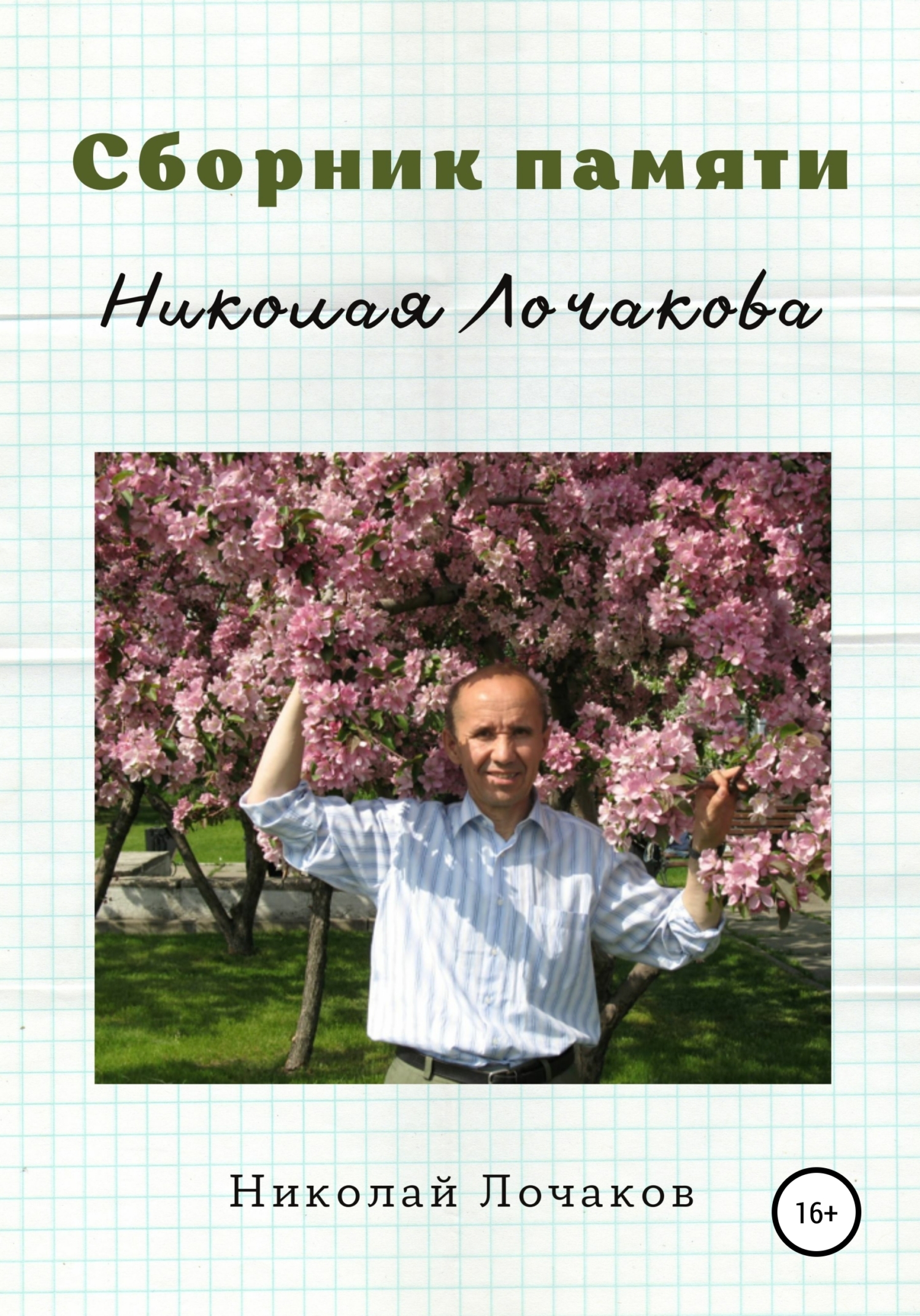десять лет. Мать погибла в кораблекрушении через несколько лет после смерти отца.
Я ничего этого не знала. Дениза говорила мне, что потеряла родителей, но не уточняла, при каких обстоятельствах. И никогда не говорила, что у нее бывают приступы, связанные с дрепаноцитозом.
Она тебя ждет, сказала тетушка. Я зашла в палату. Дениза действительно ждала меня: когда я входила, она смотрела на дверь, как будто знала, что я приду, или слышала в коридоре мой голос. Я ожидала увидеть ее ослабевшей, почти без сознания, опутанной, как зловещей паутиной, проводами и трубками, из которых медленно сочится прозрачная или желтоватая жидкость, и зондами, подключенными к аппаратам, к кислородному концентратору, к капельнице. Но вокруг ее кровати было пусто и чисто. Можно было подумать, что она поправляется и ее готовят к выписке или, наоборот, сочли безнадежной и прекратили лечение. Она сидела полулежа, ноги прикрыты простыней. Она улыбалась. Я подошла к кровати и взяла ее за протянутую руку.
– Вот, читаю, и мне очень нравится. Найду там себе шикарную эпитафию.
Она показала мне «Философские крохи». Мне не хватало мужества, да и желания тешить ее несбыточными надеждами или утешать. Она лучше, чем кто-либо другой, знала, как близка к смерти, быть может, даже уже видела ее воочию и заглядывала ей в глаза. Говорить, что это не настоящие глаза, и уверять, что они пришли не за ней, с моей стороны было бы бестактностью, характерной для некоторых людей, внушающих больным чрезмерный оптимизм. Поэтому я просто пожала ей руку.
– Обычно я чувствую приближение приступа и успеваю подготовиться, – сказала она. – Со временем научилась. Но в этот раз приступ грянул неожиданно. Я ничего не могла сделать.
– Ты не обязана рассказывать об этом, Дениза. Поговорим о чем-нибудь другом.
– Не будь дурой, моя дорогая. Ты знаешь, что нам надо поговорить. Это случилось, когда я была в шестом номере. Точнее, после шестого номера. Или из-за шестого номера.
Она замолчала. Молчала и я. Ее рука слабо отозвалась на мое пожатие.
– Он больше не приходил в «Вотрен» после того дня, верно? – спросила она.
– Нет.
– Возможно, он это уже сделал.
– Что сделал?
Дениза несколько секунд выразительно смотрела на меня, затем произнесла:
– Когда я пришла к нему в шестой номер, он сидел на диване, в полутьме. Только светящийся ореол ночи проникал в окно, которое он открыл, несмотря на холод. Но я была не против, мне было немного жарко. Он снял свою шляпу с большими полями, но в темноте я не могла как следует разглядеть его лицо. Я поздоровалась и спросила, хочет ли он, чтобы я зажгла свет. Он сказал: «Нет, так лучше». Затем спросил, почему я пришла одна. Я ответила, что ты не захотела. Он промолчал, очевидно разочарованный, а я стояла перед ним, не зная, должна ли я подойти к нему, полностью раздеться, начать танцевать, лечь в постель или просто ждать, когда он скажет мне, чего хочет. Наконец после долгой паузы он сказал, что ничего не выйдет, что со мной одной он не сумеет расслабиться, как ему необходимо для предстоящего в ближайшие дни. Я промолчала, и он спросил: «Вы не хотите спросить, что мне предстоит сделать в ближайшие дни?» Я ответила, что мне это и правда интересно, но я не собиралась его спрашивать, потому что в конце концов это его дело, а я просто танцовщица, которую попросили доставить ему удовольствие. Он секунду помолчал, потом сказал, что раньше, до войны, здесь не было танцовщиц. И до того, как я успела задать ему вопрос, продолжал: «Да, я знаю это место или, по крайней мере, знал раньше, когда оно называлось по-другому, и я иногда бывал здесь, с друзьями или один. Это было одно из лучших заведений в районе площади Клиши». Потом он захотел, чтобы я помассировала ему плечи. Я подошла ближе и тут впервые смогла разглядеть его лицо. Ему, пожалуй, было лет семьдесят. Я встала сзади и начала массировать ему плечи. В какой-то момент он стал напевать танго Карлоса Гарделя. Я продолжала массировать его, надеясь, что он будет петь танго всю ночь, потому что пел он хорошо. Однако он замолчал. И тогда на меня стал наползать страх, медленно, но неотвратимо. Я не понимала почему. Думаю, это было то, что называют плохим предчувствием. Я начала дрожать. Чтобы успокоиться, я попыталась уверить себя, что дрожу от холода, потому что сзади – открытое окно, хотя на самом деле понимала, что струйка свежего воздуха тут ни при чем. Все же я спросила, можно ли закрыть окно. Он сам встал и закрыл его. Затем вернулся ко мне. Он показался мне огромного роста, я почувствовала себя перед ним полностью беззащитной. Когда он сидел в кресле, это был старик, элегантный, но немощный. Стоя он казался совсем другим, сильным и очень высоким. Страх не исчез, он сидел у меня в животе и давил, словно тяжелый камень. Он, видимо, это заметил, и сказал, чтобы я не боялась, что он мне ничего не сделает, что в его годы чаще думают о выборе материала для собственного гроба и похоронных венков. Я улыбнулась. «Вы можете идти», – сказал он. «Уже?» – спросила я. Он сказал: «Да». Мне полегчало, я шагнула к двери, а он снова сел в кресло. И в этот момент я сделала то, чего не должна была делать ни в коем случае: остановилась и спросила: «А что вы собираетесь делать в ближайшие дни?» Я увидела у него на лице улыбку, а камень у меня в животе шевельнулся. «Вы уверены, что хотите это знать?» – спросил он. Я кивнула. Он спросил почему. Потому что, ответила я, мне показалось, вы хотели, чтобы я это знала. Он вполголоса произнес: «Возможно» – и после краткой паузы продолжал: «Тогда я вам скажу, раз уж вам (а может, и мне тоже) так хочется, но учтите: сказанное не должно выйти за пределы этой комнаты, иначе…» Он не договорил. Я подумала, что он играет со мной в какую-то игру, и я не ошиблась, только ставкой в этой игре была жизнь, а правила знал он один. Но я пообещала, что никому не скажу, и дала клятву, умирая от страха, но улыбаясь. Тут он со своей жуткой ухмылкой произнес: «Мне предстоит сделать то, что я делаю в течение долгих лет: убивать; в ближайшие дни мне надо убить еще одного человека, и тогда все будет кончено, тогда все свершится». Он умолк, а я