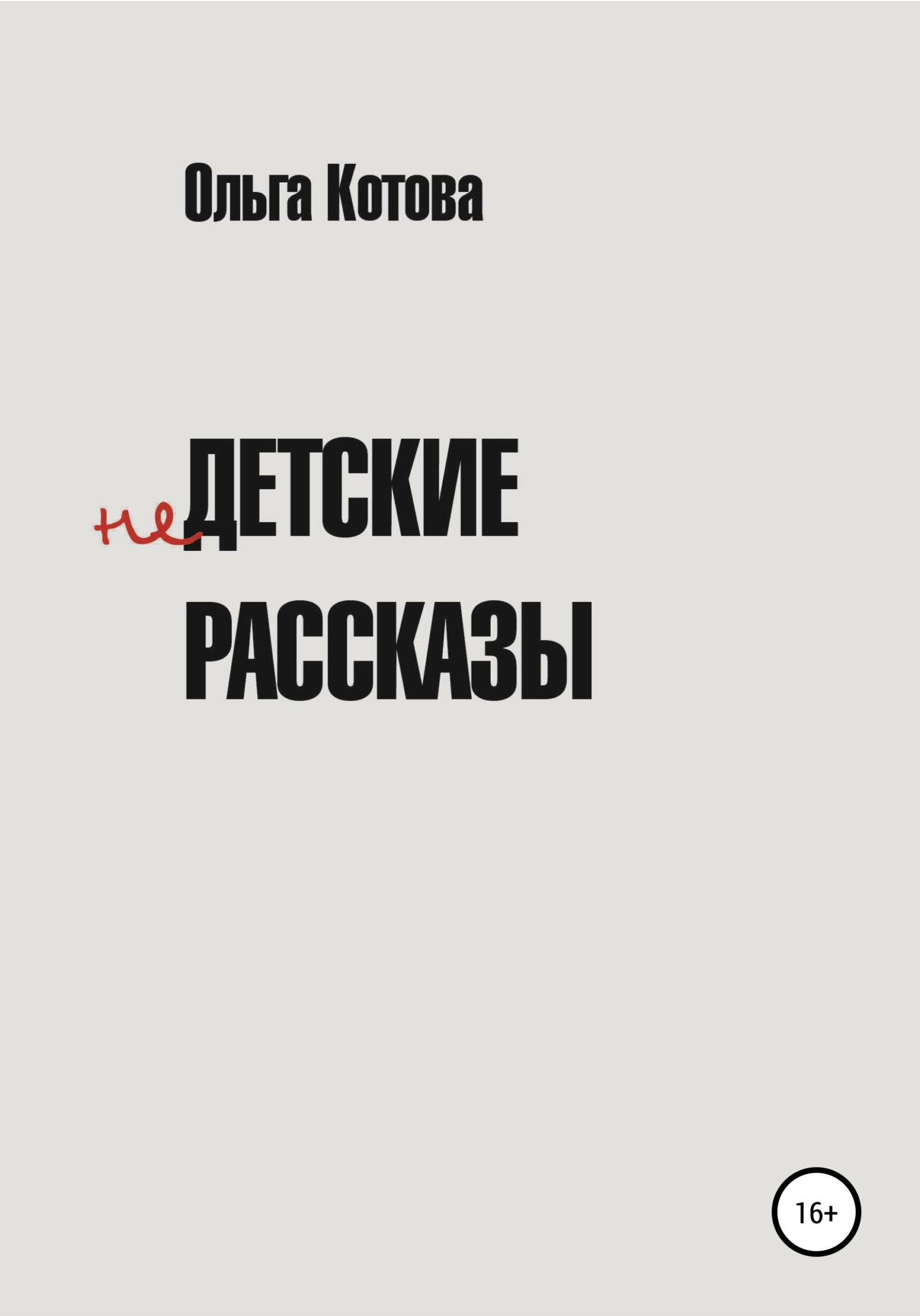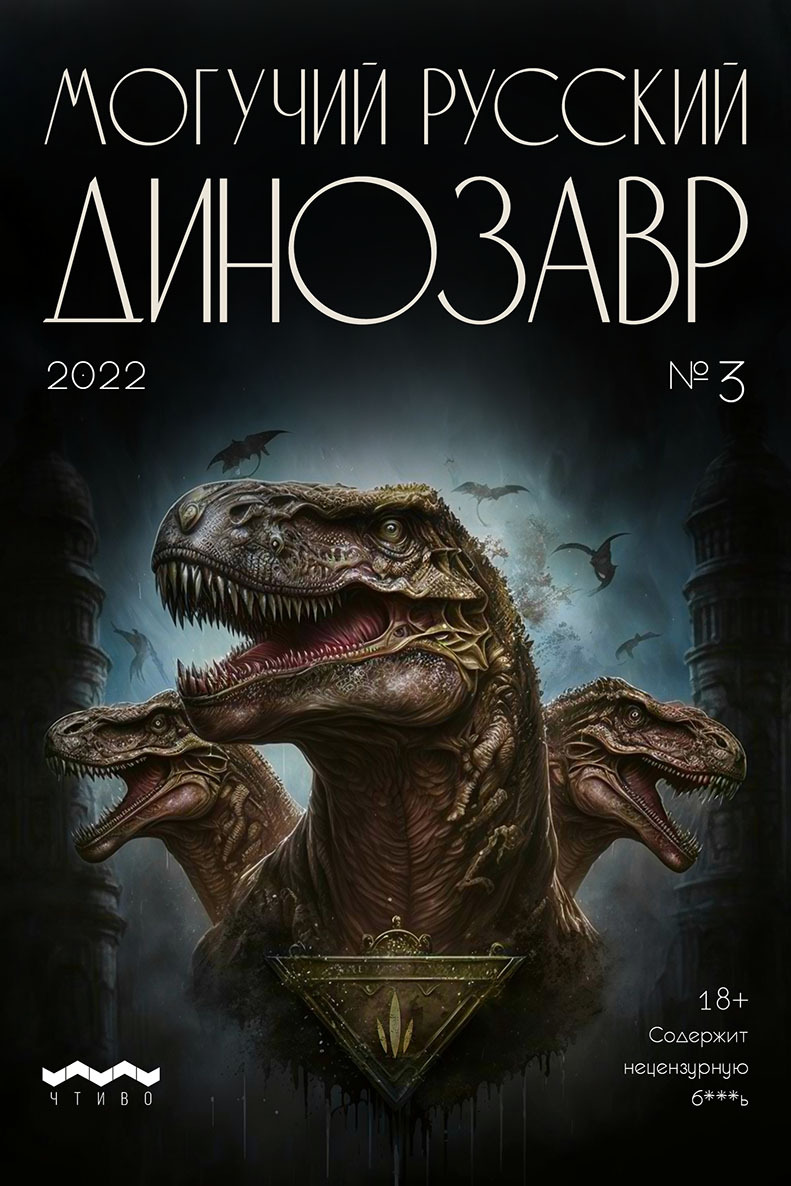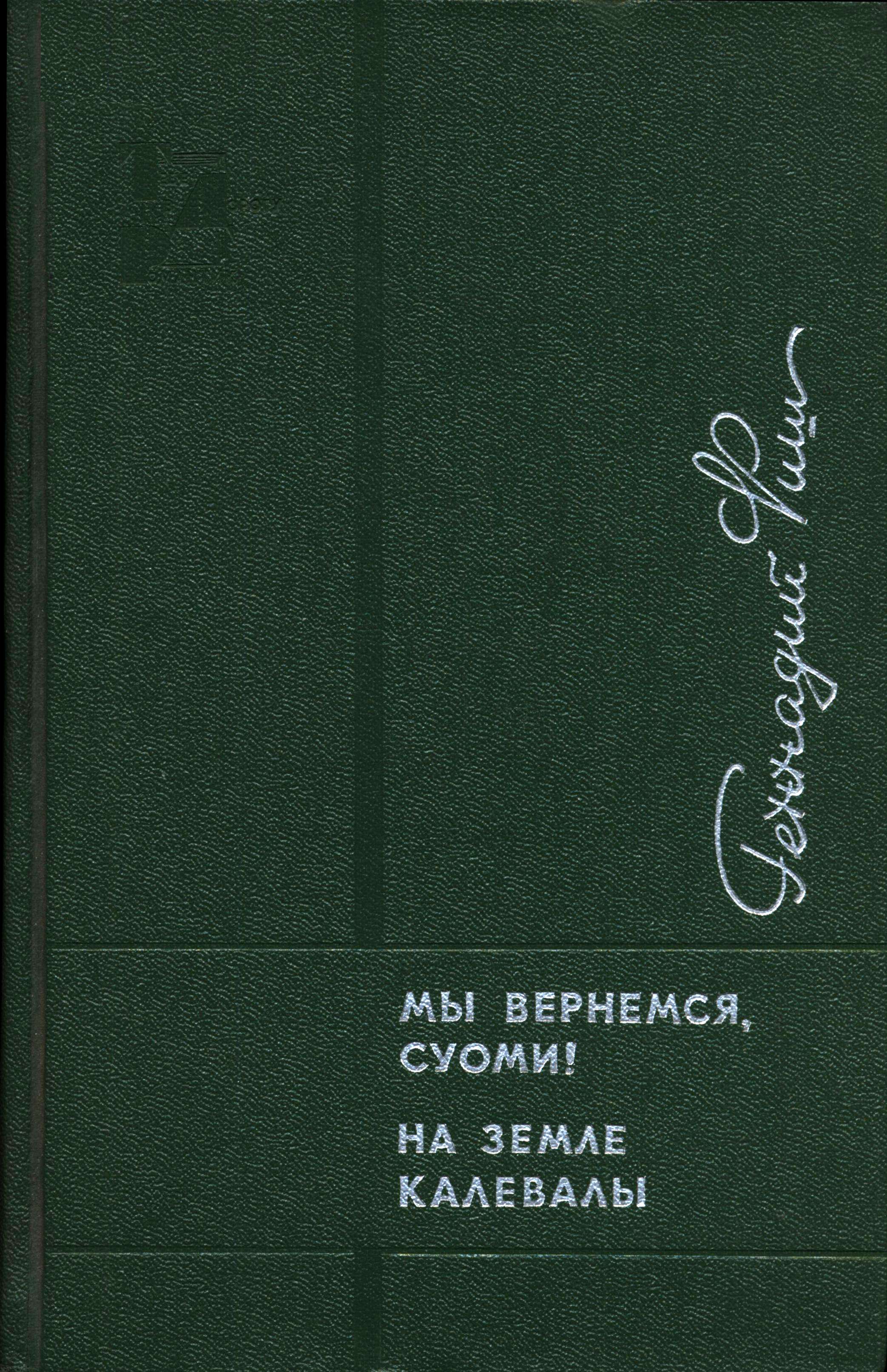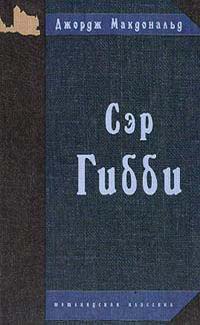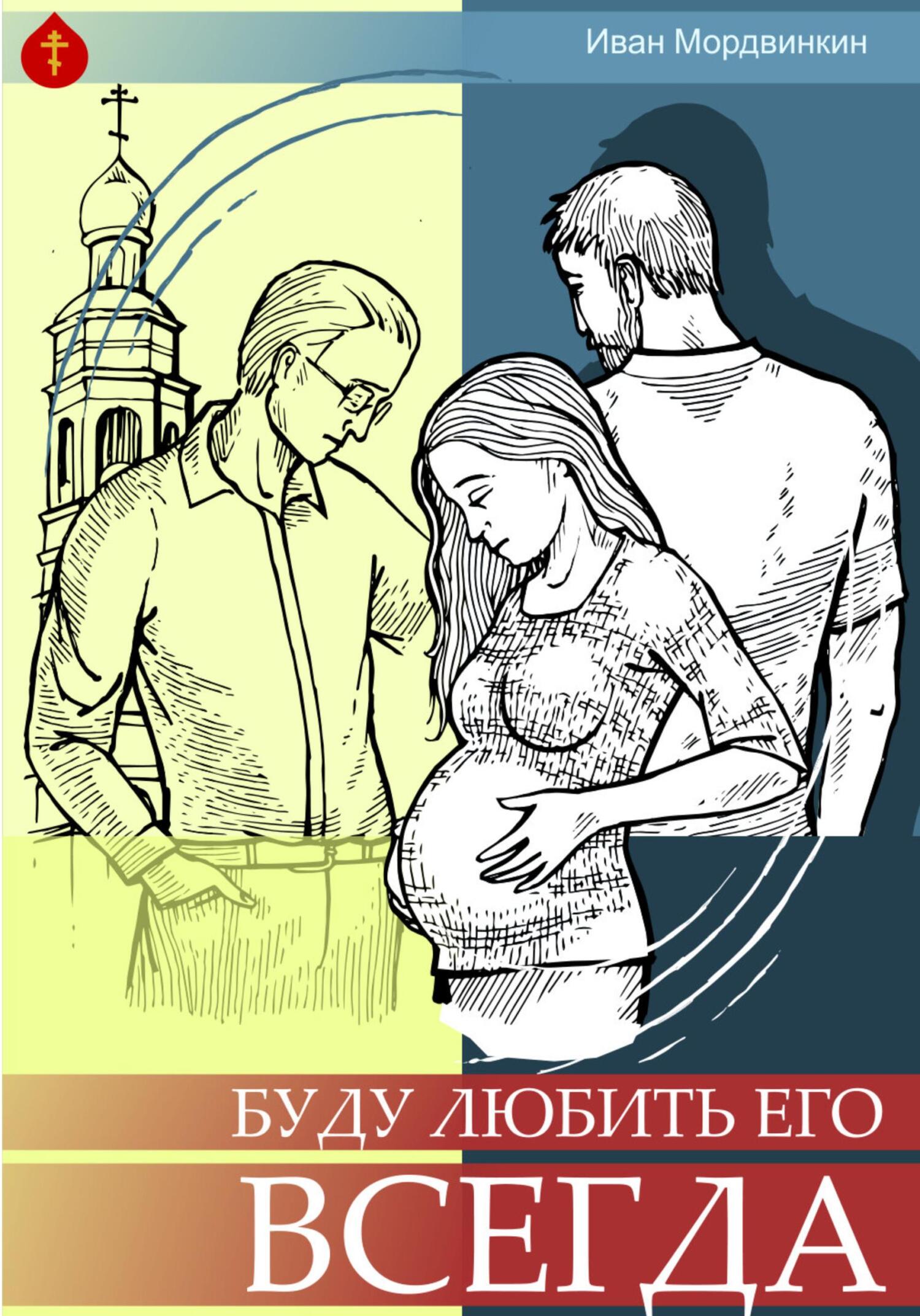Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 83
нет ничего. Как ни поверни, ей он нужней всего.
– Прощай, Уильям, – говорит она ему.
– Прощай, Пыха. – Глажу ее по рукаву. – В смысле, Летти. Прощай, Бать.
Сжимаю ей руку, она сжимает в ответ мою. Выхожу из комнаты, а в голове завал всяких слов: такой святой и сякой святой, холодные фронты надвигаются, да вот такая-то сила ветра, Брассо и Омо[125]. Всякое такое, что имеет смысл у нее в голове, а наружу выбирается задом наперед и исковерканное. Пристукиваю Божка по черепушке. Крепче крепкого. По-прежнему Божок, но уже не Батя – больше не для меня.
У выхода опять возникает Бернадетт.
– Мальчонка-мясник. Пыха тебя ждала.
– Что?
– Все теперь ищут тех народимчиков, – она мне. – Мисс мимо-молись. Держала изо всех сил, но поминай как звали.
– У нее отняли ребенка?
– Ветром пых – вверх, вверх да прочь.
– Народился у нее кто-то?
– Народился, да не народимчик. – Она разворачивается и идет к лестнице. – Но и не просто притворство.
Как только дверь за мной закрывается, мне приходит на ум, что, может, стоило Летти обнять или как-то, – раз уж она решила, что я вроде как Батя, что ли.
Выхожу за калитку, и меня осеняет. Как там дружочек наш назвал эту аллею между деревьями? Серпантин, что-то такое змеиное? Она да, чуток вьется. Как все тут. Так и сяк поворачивает, но в конце концов это просто путь из ниоткуда в никуда, только чуть длинней.
Когда свежа была ты
Увидев свет любви в твоих глазах,
Я думал, мир сулит мне лишь любовь…[126]
Шершавая глотка Финбара Фьюри[127], лоб хмур от боли воспоминаний, поет “свежа в шестнадцать”. Проклятие ирландца – груз воспоминаний и истории. Стою я на туалетном столике рядом с Леттиным радиоприемничком, и по радио дают эту песню, по заказу Лиама и Эмер Бродерик, сегодня у них шестидесятая годовщина свадьбы.
Люблю тебя, как и тогда, когда свежа была ты…
Когда Перри эти ноты своими связками выдает, в песне столько сожаления не ловишь. Говорят, он просто крунер, но что с того? Благодаря ему слышишь иначе. Люблю тебя, как и тогда: значит, что любовь длится и длится, любовь жива сейчас, как и тогда, вне времени – как я сам. Есть что сказать о голосе, какой способен уловить те стороны жизни, что понежней, грезы и неспешность долгих послеполуденных часов, сиди ты при этом за столом или за верстаком, пробегай пальцем по узлу в дереве или же по строчке на странице, под дребезжанье осы, что ползет вверх по оконному стеклу. Этот голос вынимает тебя из себя. В места за пределами твоего постижения. Такие мгновенья тянутся и тянутся, и ты внутри них.
Я тянусь и тянусь, жужжу, как пила, даю голос припеву, меня поймавшему. Мы пели эту песню вместе – мы с Летти, хотя она тогда еще не достигла своих шестнадцати. Много раз за прошедшие годы я проходил мимо мясницкой витрины – выложены на поддоны бараньи котлеты или же красные сырые отбивные – и думал о ней. Летти любила мясо, ей нравилось быть рядом с ним. Вот почему ее мать отдала ее в лавку мясников Суини – сметать опилки и натирать стекло. Чистая свежесть, ни единой морщинки на лице, ни единой заботы, сплошная радость.
Через каждые несколько фраз, какие подбираю одну к одной, собираюсь я в дорогу. Но чаще растворяются они, как алка-зельцер в стакане воды. Потому ли все эти высокопарные слова вплывают в мою речь, дают мне больший размах в выраженье? Сейчас или никогда, как сказал он самый[128].
Хочу сказать все как есть, но любое отдельное слово завихряет меня и уносит. Такое же ощущение, как в детстве, когда кружишься на месте. Раскручиваешься, пока не упадешь; встаешь и кружишься, пока не упадешь, а мир все вращается вокруг. Кружитесь вдвоем, очертя голову, руки крест-накрест, пока кто-то из вас не отпустит их, а круженье продолжается, сам пятишься, а голову тянет вперед. Прежде чем придешь в себя как следует, себя же и отбросишь вновь и вновь. Сыпать ловкими словами, чтоб получилось по смыслу, – все равно что кружиться прочь от сердцевины.
Каждый день заходили мы в лавку Суини, и странная власть брала верх над нами. На задней стене Джеймз Суини повесил зеркало, служившее еще и доской объявлений: напиханы были под раму букмекерские квитки, счета и прочие бумажки. Ни один мясник не в силах пройти мимо, не оправив фартука или не пригладив запястьем шевелюры. Вот работает человек на ферме или в шахтах и о своем лице за весь день ни разу не вспомнит, но зеркало – оно подобно оку, что меняет дух всего места: каждый мясник, занятый своим делом, если ловит свое отражение, ловит и взгляды покупателей – они смотрят, как он смотрит на себя в зеркало. Над разделочной колодой пришпилено изображенье коровы. Каждая часть ее отделена от остальных пунктирной линией и подписью – названием этой части. Вид сбоку, но голова повернута, глаза следят за движениями покупателей. Коровьи глаза смотрят за тем, как люди смотрят на себя.
Иногда есть, можно так сказать, между мною, Летти и той коровой – некий заговор. Мона Лиза – так мы ее зовем. Может, потому что она висит на стене, выше зеркала, но только ее глаза не смотрят на нее саму, а на тебя смотрят дважды. Странное дело, до чего утешительным такое вот может быть, и толком не понимаешь почему: некоторым так делается от изображенья Иисуса с кровоточащим сердцем в руках, а глаза его скорбные за вами следят.
Всякие-разные есть сорта тщеславия. Зеркало в лавке Суини – один. Но худший – это использовать людей как свое зеркало, глядеться в них и видеть свое отражение. Вот во что Джеймз Суини превратил жизнь Летти – в коридор зеркал, в которых сам он выглядел мощнее, горделивее. Как-то раз он привязал Летти к рукавам свиные ножки и заставил в таком виде ходить по лавке. Потешался над ней, невозможную черновую работу принуждал делать – что угодно, лишь бы выставить ее на посмешище. Нельзя так с людьми поступать и считать, что ничего за это не будет. Есть такие, кто к своим детям так власть применяет. Мой отец так со мной пытался – загонял меня в опалубку собственного идеального виденья себя.
Суини с его придирками, а вдобавок еще и остальные обращались с Летти как с
Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 83