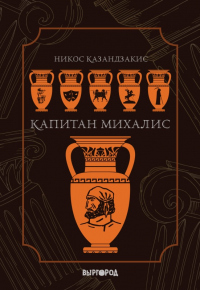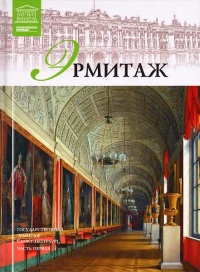Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 104
голос в приемнике, – вынуждает нас сегодня удалиться из Афин и перенести столицу государства на Крит. Не отчаивайтесь, эллины… Я всегда буду с вами… Противопоставьте вражеской силе и вражеским исхищрениям вашу национальную гордость… добрые дни еще вернутся… Да здравствует народ!..» – «Кто это?» – спросила я у Ирини. «Король…» Тетя Катинго утирала слезы фартуком. Дядя Стефанос резко поднялся и вышел на веранду. Отзвучал национальный гимн, и начали зачитывать обращение Цудероса. А ну его к дьяволу, сказала я самой себе, да что же это мы, греки, никогда не избавимся от этой дурацкой привычки? Вечно будем себя оплакивать? Вечно блюсти траур? Да что же это за несчастный народ! Предполагается, что евреи распяли Христа и за то переносят все свои мучения, ну а мы-то кого распяли, за что Бог нас проклял, что не видать нам больше солнечного дня?..
В эту минуту открылась дверь, и в холле появилась фрейлейн Обер, бледная и растрепанная. За последние два-три года она сильно сдала. Когда-то она каждую зиму ездила в Германию и Рождество проводила вместе со своими племянниками, но с тех пор как Гитлер вторгся в Польшу, у нее душа больше не лежала к поездкам. Ее отец был немцем, а мать полькой. Она ненавидела Гитлера, как мы не сумели даже после самых черных дней Оккупации. Всякий раз, как я слышала, что покойный Андонис готов лопнуть, доказывая, что Гитлер – это новый Мессия, говорила ему: «Не сходить ли тебе к фрейлейн Обер, чтобы она объяснила тебе, что такое Гитлер?..» Когда-то она ходила и давала уроки. Как-то начала учить немецкому даже и мое светило, но перестала. Их высочество отказалось, это было «скучно». Но в тридцать девятом здоровье не позволяло уже ей столько бегать вверх-вниз по городу, как раньше. Несколько учеников приходили заниматься на дом, но после начала войны в Албании исчезли и они. Тетя Катинго и Ирини были очень холодны с ней. Каждый раз, когда она была нездорова и не могла пойти поесть в ресторан, они хотя и относили тарелку еды ей в комнату, но швыряли так, будто она была шавкой подзаборной. По правде говоря, не потому что она была немкой – они просто от нее устали. Она жила у них уже семь лет. Но именно из-за того, что все вокруг нас было так, как оно было, я считала, что следует вести себя с ней как можно более вежливо, и говорила им об этом не раз. Я понимала, что она страдает больше всех нас, вместе взятых. Мало радости провести полжизни в чужой стране, любить ее как свою собственную и вдруг без вины виноватым оказаться во вражеском лагере. На несколько секунд она нерешительно замерла перед дверью. Сказала что-то Ирини (по-немецки), но той уже надоело оказывать ей услуги, и она бросила (по-гречески): «Ну ладно, я вам принесу это позже…» Я видела, что фрейлейн Обер не в себе, губы ее дрожали. Меня вдруг охватило совершенно непроизвольное желание сказать ей что-нибудь, показать, пусть даже не прямо, что мы не считаем ее врагом, и когда она уже готова была вернуться в свою комнату; сказала ей с улыбкой: «Представляете, фрейлейн Обер, что-то мне подсказывает, теперь на старости лет и я выучу немецкий. Буду приходить к тебе в комнату на уроки, вот и будет нам обеим чем заняться. Вот увидишь, – продолжила я, – за полгода я у тебя мастером стану!» Она замерла на секунду и, поняв, что я имела в виду, попыталась было выдавить из себя улыбку, словно благодаря. Потом вошла в комнату и прикрыла дверь. И вдруг – вот кто видел Господа и не устрашился его – моя дочь, прямо львица взъяренная, кинулась на меня, словно желая растерзать на части. «Да как тебе не стыдно! – завопила как резаная специально, чтобы старуха ее услышала. – Да как тебе не стыдно, ты хочешь выучить язык наших врагов! Если они войдут в Афины, я выйду на улицу и на первого же, кто пройдет мимо, плюну! А мы еще держим этих чудовищ в своих домах!» – «Заткнись, скотина, – процедила я сквозь зубы, пытаясь держать себя в руках. – Заткнись, чтобы тебя не услышала эта несчастная женщина, уж она-то точно неповинна в том, что я родила тебя на свет божий! Марш в свою комнату и заткнись там, и чтоб я тебя не слышала, иначе я тебя на куски разрежу! Ты у меня уже вот где сидишь!..» Но она даже с места не сдвинулась и все разглагольствовала, да так, что уже тетя Катинго была вынуждена вмешаться. «Вот что я тебе скажу, Мария, – говорит она ей. – Кого уж мы там держим в своем доме и почему мы их тут держим, это наше дело. Давай предположим, что мы это делаем, потому что мы – люди гостеприимные, иначе и тебя бы сейчас здесь не было…» И, содрогаясь от волнения, удалилась в кухню. «Дрянь! – рявкнула я тогда и схватила ее за волосы. – Мы еще и въехать не успели, а ты уже рассорила меня насмерть с моей же собственной теткой!» Потому что мне, видите ли, совсем не понравились намеки на гостеприимство. Как же, гостеприимство, чепуха на постном масле! Они взяли нас к себе не только не в убыток, но даже с прибылью, и если бы я не помогла им во время Оккупации, они все сдохли бы от голода. «Тварь! – говорю ей. – Откуда у нас этот неожиданный патриотизм? Когда ты могла помочь делом, ты предпочитала читать Делли и Мари Корелли. Два месяца с одним шарфом справиться не могла!» Она меня так вывела из себя, что я всю ночь глаз не сомкнула. Слушала ее безмятежный храп и с трудом удерживалась, чтобы не протянуть руки и не задушить ее. Ах, господи боже мой, какой бы счастливой женщиной я была, если бы не это фотисовское отродье!
На следующий день, часов в одиннадцать, я оделась и решила прогуляться до киры-Экави, узнать новости и глотнуть свежего воздуха. Со дня смерти Андониса я на улицу и носу не казала, не считая тех нескольких случаев, когда я ходила в наш дом взять самое необходимое. Так что меня это уже стало тяготить. Тетя Катинго никогда не относилась к тому типу женщин, что всегда составляют приятную компанию. Она ни в чем не походила на бедного папу. А сейчас, когда только и делала, что с ума сходила из-за своих сыновей, была и вовсе невероятно утомительна. Сидит на веранде и вздыхает, и нет чтоб хоть слово сказать, нет, она
Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 104