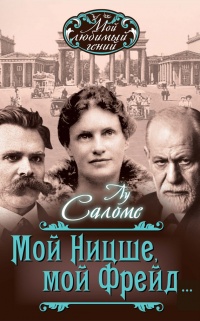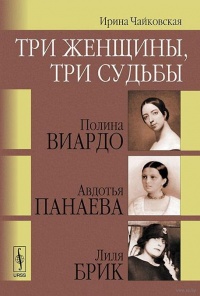Ты — ведешь; мне — быть покорной… Я должна идти, должна. Но на взорах облак черный, Черной смерти пелена.
Ужасаясь бредом Н*** о появляющемся-де перед ней демоническом образе Брюсова (к ней приходил не «образ», а В. Я. Брюсов, собственной персоной), я, часто видяся с Брюсовым в «Скорпионе», невольно пристально его наблюдал; и тут я заметил: и он сквозь деловые разговоры точно все наблюдает меня; мы стали друг другу ставить вопросы, как бы выпытывающие «credo» друг друга; была натянутость, было острое любопытство друг к другу у нас.
Но сквозь все росла какая-то между нами «черная кошка»; тут случился инцидент, который и в линии литературных дел на краткое время окислил наши отношения.
Брюсов в своих «Дневниках» пишет, как мы поссорились; я обещал взять из «Грифа» все, отданное для печати; взяв, сдал в «Скорпион» и потом внезапно потребовал рукописи обратно, чтобы снова их вернуть в «Гриф»; Брюсов наговорил мне обидностей; я заявил, что уйду из «Весов»…
Брюсов — Белому. 5 декабря 1903. Москва.
…Ваше письмо в «книгоиздательство» поразило меня. Я верил, что после всех слов, какие вам случалось говорить мне, какие нам случалось говорить друг другу, — между нами более тесные связи, чем те, которые разрываются десятиминутным обменом попреков. Неужели же вы не узнали меня изо всех моих стихов, изо всех моих речей и поступков, а узнали вот в те четверть часа, что мы стояли у полки с изданиями «Скорпиона»! Я говорил с вами через все условности общежития, через всякие «вежливости» и «салонности», а вы расслышали только обидные слова! Для меня вы уже никогда не можете стать отвлеченным Андреем Белым, и нет никого кругом, кого я так желал бы знать близким себе, как вас, — а вы пишете обо мне в третьем лице, как о чужом и чуждом!
Но дело не только во мне и вас. Среди нас иная сила, пренебрегать которой мы не смеем. Маленькие чародеи, мы закляли страшного духа; он предстал; и его не заставят исчезнуть наши бессильные заклинания. Мы уже не над «Скорпионом», а в нем; мы управляем им не более, чем кормщик кораблем, крутимым бурей. И с вашим уходом «Скорпион» и «Весы», конечно, не пропадут. К нам примкнут еще многие, ибо вокруг уже образовался тот водоворот, который засасывает всех, плывущих мимо. Но с вашим уходом от «Скорпиона» будет отнято все присущее лично вам, ваша вера, ваша зоркость, ваша молодость. Наш путь изменится, правда, на ничтожный угол, но если мы продолжим линию этого пути в даль годов и в даль влияний, — как изменится цель! В вашей воле дать торжество вам желанному направлению, но вы от этого хотите отказаться. Сколько раз говорили мы с вами о недостатках «Мира искусства» и «Нового пути» (вы его называли «Бедным путем»), и вот у нас журнал, который мы можем сделать таким, как мы хотим, — и опять от этого вы хотите отказаться. Если вам дороги не только ваши стихи, и образы, и книги, — но и власть их над людьми, и торжество всего, чему вы верите, — уходя из «Скорпиона», вы совершаете преступление.
И во внешнем вы совершенно не правы. Совсем неверно, будто мы, «скорпионы», наложили на вас какие-то деспотические требования. Вы были среди нас, когда мы решали, что участвовать в «Грифе» не должно, вы были из тех, кто решал это. Я помню ваши глаза, и как звучал ваш голос, когда вы говорили Зинаиде Николаевне: «Я возьму, я все возьму!» (т. е, все рукописи из «Грифа»). И если б не было этих ваших слов, этого вашего согласия с доводами Дмитрия Сергеевича, мы наверное не решились бы отказывать Блоку, Миропольскому, многим другим… И до сих пор я не могу понять, почему вы изменили ваше решение. У Бальмонта есть специальные причины покровительствовать не «Грифу», а Соколову, но вы, но вы? Не можете же вы не видеть, что Соколов — балаганный шут, неумелобездарный шарлатан, в устах которого все самые истинные слова становятся фиглярством и пошлостью! Конечно, может быть, вы, Бальмонт и Блок создадите новый «Гриф», ничего общего с прошлым не имеющий, вы трое достаточно сильны для этого, но на что это нужно? Существующий же «Гриф» есть только пародия настоящего дела. Людям, подобным Соколову, можно поручать свой гражданский процесс, но позорно поручать им и доверять им свои мысли.
И в заключение еще о себе. Если я вам сказал, тогда или сегодня, обидные слова, — простите меня. Я сказал их не с целью вас обидеть, а чтобы выразить, что во мне. Перед вами извиниться мне не будет стыдно никогда и не будет никогда унижением. Для меня образ человека стоит выше всех его поступков и слов. Меняются убеждения, слабеют и крепнут силы духа, волоса становятся седыми и лицо — в морщинах, но человек остается все тем же, каким мы его увидали в истинный миг близости. Я вас не перестану любить, кем бы вы ни стали, что бы вы ни совершили, что бы мне на это письмо ни ответили. Я не могу не упрекать вас, потому что считаю ваши поступки достойными упреков, но мне будет бесконечно горько и тягостно, если вы останетесь чужим мне, если нам придется продолжать наше дело без вас…
Белый. …«после мы, — пишет он (Брюсов. — И. Т.), — умилительно примирились».
Стиль примиренья в годах — побеждал; побеждала действительная человечность Валерия Брюсова: под маской жестокости; сколько раз я разрывал все с «Весами»; и снова печатно гремел: за Валерия Брюсова; он побеждал меня несознанной мной в те годы своей живой человечностью.
К характеристике Брюсова этого отрезка лет: насколько я его понимал в те годы, он, что называется, был только скептик, не веря ни в бога, ни в черта, не верил он и в последовательность любого мировоззрения; его интересовали лишь ахиллесовы пяты любого мировоззрения: он хотел в них воткнуть свою диалектическую рапиру; он был диалектиком, но вовсе не в теперешнем смысле, а — от софизма. Поэтому: он выдумывал с озорством игрока различные подвохи и позитивисту, и идеалисту, и материалисту, и мистику; уличив каждого в непоследовательности, он проповедовал, что истина — только прихоть мгновения; отсюда вытекала его любовь к перемене идейных обличий, доходящая до каприза: играть во что угодно и как угодно; «духовидцу» он проповедовал: «Спиритизм объясним материалистически: феномены стуков — неизвестные свойства материи».
Материалисту же он мог из озорства выкрикнуть: «Есть явления, доказывающие иной мир».
Не верил же он — ни в духов, ни в материю; но оборотной стороной этого скептического неверия было огромное любопытство: ко всему темному, неизученному; он сам же ловился на этом любопытстве, с нездоровою любознательностью перечитывая все, что писалось о передаче мыслей на расстоянии; помню, как выкрикивал он, вытянув шею:
— «А ведь Барадюк нашел способы фотографировать мысль!» Для него было не важно: нашел или не нашел, а важно в данную минуту показать сомневающемуся, что его сомнения от узости, от какой-нибудь догмы; если бы он сам принялся доказывать свою мысль, он, вероятно, доказывал бы, что факт возможности такой фотографии свидетельствует, что мысль — материальная вибрация; вероятно, он являлся к спиритам в те дни, чтобы наблюдать их и доказывать, что для объяснения «стуков» не следует призывать никаких «духов»; но попугать суевера любил; и для этого приставлял при случае к своему лбу и рожки, являясь эдаким «чертом» пред ним.