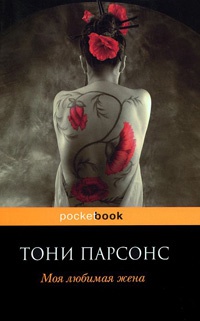Сара начала с обвинений, но нападки продолжались недолго.
— Ты считаешь, это нормально — когда муж роется в столе своей жены?
Я не ответил, она едва заметно дернула плечами, словно сознавая, что негодование — неуклюжий способ защиты, недостойный ее. Поправила волосы, выбившиеся из пучка, подошла к дивану и села за чайный столик — как ни в чем не бывало. У Сары был талант сглаживать острые углы, и она умело пользовалась им на протяжении пятидесяти семи лет нашего брака. Возможно, она считала, что я снова подпаду под власть ее чар; принялась разливать чай, и волнение ее выдавало лишь непривычное позвякивание чашек о блюдца.
— Что это? — спросил я тихо, хотя знал ответ.
— Прости, что, дорогой?
Моя жена не подняла глаз, делая вид, что очень занята организацией чаепития. Я и сейчас вижу перед собой ее темные с проседью волосы, стройную, изящную, как и прежде, фигуру. Сара в нерешительности склонилась над чайником. Вот эта нерешительность ее и выдала — внезапная уязвимость, ненамеренная, непредусмотренная, разоблачавшая всю фальшь красивых, искусственных слез, пролитых ею в прошлом. По оболочке, целостность которой Сара так долго и старательно поддерживала, прошла глубокая трещина. Я пробил в ней брешь, я понял это уже тогда. И ее сила, когда-то казавшаяся мне безграничной, постепенно уходила сквозь образовавшуюся трещину.
Сара продолжала молча разливать чай.
Пока она наполняла чашки, я невпопад, рассеянно подумал, что с годами она стала красивее. Хрупкой, ускользающей привлекательности, которая роднила Сару с кузиной, возраст с его морщинами и рассудительностью пошел только на пользу. На ней было длинное, старомодное сине-зеленое платье, на тон темнее ее глаз. Руки казались тоньше и изящнее оттого, что она держала тяжелый чайник.
— Скажи мне, что это, — повторил я, но уже менее требовательно: теперь, когда сила была на моей стороне, я не знал, как ею управлять.
Я так долго подчинялся Саре, что теперь мне было нелегко нарушать установившееся между нами равновесие. И еще мне было страшно: а вдруг не хватит решимости наказать ее, как она того заслуживала? Разработав план отмщения, я уже испытал облегчение, но даже в гневе жалел ее. Сара почувствовала это по звуку моего голоса, подняла глаза и заглянула в мои; смотрела молча, с одной ей свойственным великим искусством подчинять себе окружающих. Она по-прежнему была мастером в такого рода делах, и мне потребовались все силы, чтобы сопротивляться ее беззвучным чарам.
Сара передала мне чашку и, выдержав паузу, спокойно произнесла:
— Это ключ от Большого зала.
Зная, что ее уязвимость делает меня беззащитным, она сидела не шевелясь, сложив руки на коленях, слегка склонив голову, и я видел нежные, тонкие позвонки над воротником платья.
— Расскажи, пожалуйста, как он у тебя оказался, — попросил я.
— Мне нечего скрывать, Джеймс. — Тон у Сары был ровный, однако чувствовались в нем жалобные нотки оскорбленной невинности.
Вдруг кротость, столь искусно сыгранная, на мгновение уступила место вспышке гордости. Буквально на секунду лицо ее озарилось гордостью и бесстрашием. И хотя потом она отвернулась, отирая глаза, словно на них наворачивались слезы, было уже слишком поздно. И Сара это знала. Она заговорила снова, но голос звучал совсем по-другому.
— Неужели это все-таки произошло?
— Да, — подтвердил я вежливо, черпая силу в своем отвращении.
Моя жена продолжала смотреть на меня с дивана, но чары были разрушены — и она знала. В первый раз за все время нашей супружеской жизни я не поддался могуществу ее светлых голубых глаз. Они потеряли надо мной власть. И с той поры я стал свободен.
— В таком случае задавай мне любые вопросы, какие хочешь, — произнесла она чуть ли не высокомерно. — Я вижу, ты рылся в моем столе и нашел вещь, которую не должен был находить.
Сара встала и через всю комнату прошла к окну. С потрясающим равнодушием повернувшись ко мне спиной, она стала смотреть на море или, быть может, на скалы внизу. Понятно, ситуацию уже не сгладишь, война объявлена. Мы дошли до самого края. Сара сделала последний шаг к примирению, серьезно предостерегая меня:
— Тебе следует хорошенько подумать, прежде чем начать спрашивать, потому что я скажу тебе правду. А она не всегда так приятна, как нам хотелось бы. Послушай моего совета, верни на место то, что ты у меня взял, и забудь об этом.
Но нет, я понимал: с забвением, к которому приучала меня Сара, покончено.
— Это ты убила Александра? — осведомился я.
Наступила тишина. Вероятно, подумал я, Сара не ждала прямого обвинения и смутилась. Однако, когда она ответила, в голосе ее звучало лишь раздражение, досада на то, что я посмел восстать против нее.
— Вижу, ты решил не обращать внимания на мое предостережение, — промолвила она в ответ ледяным голосом.
— Да, — с вызовом ответил я, испытывая нечто сродни ликованию.
— Значит, ты действительно хочешь услышать мой ответ.
— Да, — повторил я на волне той же пьянящей радости.
— И мой ответ — тоже «да».
Тут Сара повернулась, на фоне закатного солнца я не мог разглядеть ее лицо. Казалось, волосы ее объяты пламенем.
— Я убила его. И, предвосхищая твой следующий вопрос… снова «да». Эллу признали виновной в смерти отца не случайно.
Итак, свершилось, признание прозвучало! Я знал правду — подтвердилась догадка, пронзившая меня несколько часов назад, когда я стоял у раскрытой двери в Большой зал, глядя на спины уходящих туристов и думая лишь о том, как я одинок. Теперь я знал наверняка, но, честно говоря, в тот момент — именно в тот момент — я совсем ничего не чувствовал. Вероятно, я уже тонул — хотя сам того не сознавал. Тихое спокойствие Сары, долгое время служившее мне единственным спасательным кругом, тащило меня на дно. Сейчас я это отчетливо понимаю.
А тогда еще не понимал. Комната превратилась в мутное пятно, потому что глаза мои наполнились горячими детскими слезами, и единственное, что я мог, — это спросить ее: почему? Почему она это сделала?
Моя жена долго обдумывала вопрос и подбирала для ответа ледяные, короткие слова.
— У Эллы было все, — раздумчиво произнесла она, — а у меня не было никого и ничего. И она украла у меня человека, которым я дорожила больше всего на свете.
Сара отошла от окна и теперь двигалась через комнату, очень прямая в элегантном сине-зеленом платье, из аккуратного пучка выпало несколько прядей. Когда она села рядом со мной на диван, я ощутил ее чистый, теплый запах — пудры и розовой воды. Она бросила курить. Но со мной останутся ее глаза, а не запах, глаза и слова. Я вспоминаю наш разговор, и мне становится не по себе от того, каким жестким был ее взгляд.
Слушая ее, я понимал, что Сара, которую я знал — и даже любил, — долгие годы была всего лишь искусно сработанной маской, предназначенной для того, чтобы поддерживать мою преданность и держать меня в подчинении, ведь кузина Эллы так и не избавилась от страха перед предательством. А в ту минуту, в сиянии заходящего солнца, она ожила. Что-то жуткое было в контрасте между ее красотой и жестокими словами, что-то леденящее душу — в том, как она с едва сдерживаемой гордостью говорила об утрате и ревности, о горе и мести.