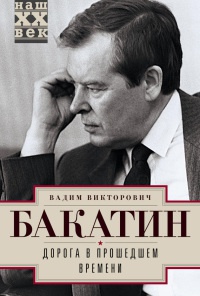«В сознании Пилигрима между теми двумя мгновениями, когда он стоял перед Леонардо и когда предстал перед моими глазами, не существует времени и пространства. Как для Блавинской — между ее жизнью на Луне и появлением здесь. И для нашей рыбки — между океаном матки Эммы и берегом, на который ее вытащат в один прекрасный день».
Все в мире едино.
Это верно.
Пространство и время неделимы.
Тоже верно.
Так мы видим — а остальное не имеет значения.
И так мы помним.
Да. И чувствуем.
И говорим.
Объемли все разом. Все едино.
Юнг склонился вперед.
Ручка на мгновение застыла в воздухе. Потом он написал:
«Все время — все пространство — мое. Коллективная память человечества сидит рядом со мной в пещере — моем мозге. И если, утверждая это, я пополняю ряды безумцев, пусть будет так. Я безумен».
14
«Отель «Бор-о-Лак»
Цюрих
14 мая 1912
Итак, дорогой мой друг, я обращаюсь к тебе в последний раз. К сожалению, мне приходится делать это в письменном виде, хотя я предпочла бы попрощаться с тобой как обычно — пожать руку и поцеловать.
Как ты, наверное, догадываешься, мне страшно. После такой полнокровной, насыщенной жизни — и вдруг смерть. Мы были так уверены, что она никогда не придет! Вспомни, как часто мы желали ее прихода, хотя знали: то, что смертные называют «гибелью», нам не грозит. Боги этого не допустят. Они даже думать о ней не позволят — и все же вот она…
Двое посланцев прибыли в Цюрих одновременно с нами. Ты помнишь, когда мы приехали, мела метель? Похоже, она была их транспортным средством. Фамилия этой парочки Мессажер. Посланец. Они выдают себя за французов, безупречно говорят по-французски, но больше у них нет никаких человеческих черт. Я узнала их с первого взгляда, хотя не сразу поняла, зачем они явились. Я думала, в Роще будет сбор — и, естественно, сердце у меня подпрыгнуло от радости, поскольку я решила, что на нем будет решено освободить тебя от нынешнего состояния. Но они явились не за тем.
Доктора Юнга, быть может, позабавит — если ты когда-нибудь захочешь рассказать ему об этих событиях, — что он тоже видел моих гостей, поскольку Мессажеры, выдавая себя за новобрачных, были в ресторане в день нашей первой встречи. Я не могла не отметить про себя, как его поразила их неземная красота.
Да, я верно выразилась. Они явно не от мира сего; впрочем, откуда простому смертному это знать? Жаль, что боги и их подручные не появляются здесь чаще. Очень жаль. Так было бы лучше для всех нас.
Хотя моя «жизнь» ни в коем случае не может сравниться по продолжительности с твоей, я уверена, ты сможешь представить, с какими смешанными чувствами радости и трепета я смотрела, как они приближаются ко мне. Ты прекрасно знаешь правило неписаного этикета: «К ним не подходят; они подходят сами». Однако я постаралась всячески облегчить им задачу, усевшись на видном месте в вестибюле отеля и сделав так, чтобы меня назвали по фамилии.
Не могу точно сказать, как скоро я поняла, что они прибыли «позвать меня домой». Раньше я не сомневалась, что моя жизнь будет продлена. Мое пребывание здесь, как ты знаешь, было не слишком долгим. Похоже, мне даровали обычный срок человеческого существования — не больше. Я должна была выполнить свою работу, и, очевидно, моя миссия подошла к концу. Сидя здесь сейчас, я пожимаю плечами, теряясь в догадках. Кто может понять, что все это значит? Я, наверное, никогда не пойму — и готова с этим смириться.
Ты как-то раз сказал мне под большим секретом — и поверь, мой дорогой, я никогда не предам твое доверие, — что твои встречи с Другими всегда происходили в месте, которое ты называл Рощей. Я удостоилась чести быть приглашенной туда лишь однажды — и, право, я этого не ожидала. Но теперь могу признаться: я надеялась, что нас с тобой пригласят туда еще не раз. Хотя ты с горечью как-то обронил, что это «честь быть обесчещенным».
Я знаю, как ты страдал. И то, что ты должен страдать и дальше, более всего печалит меня сейчас, когда мне приходится покинуть тебя. Но меня призвали.
То, что их фамилия Мессажер, почти забавно. В этом так мало такта!.. Хотя во всем остальном они были учтивы и обращались со мной с величайшим почтением. Месье преподнес мне букетик фрезий, а мадам присела в реверансе. Представляешь? В тот миг я была для них королевой! У них такой вид — ты поймешь, о чем я, — как у новоиспеченных чемпионов… У гимнастов, только что увенчанных лаврами. Молодость — но такая, какой она редко бывает, без печати смертности. Сплошь благоухание, нежная кожа и удивленно распахнутые невинные глаза.
Боже мой! Жить — умереть. Что мы знаем? Ничего. Вернее только одно: жить хуже, чем умирать.
Быть отвергнутой жизнью, отринутой, освобожденной от нее. Больше никаких «должна». Мне не придется отныне вставать на заре, быть, брать на себя ответственность, видеть то, что мы видим, грустить, тосковать по тем, кого я люблю, отпевать мертвых младенцев, животных, незнакомцев. Мне не придется больше обещать: «Я не могу, но попытаюсь. Я не могу, но сделаю». Мне не придется больше оказываться в ситуации, когда ты вынуждена говорить: «Я знаю — я вижу, я слышу, я чувствую», поскольку у тебя есть глаза, уши и нервные окончания. Всех этих человеческих качеств я буду лишена, и хотя я рада, что расстанусь с ними, мне невыносима мысль о том, что Я также расстанусь и с тобой.
Я больше ничего не смогу для тебя сделать. Ничего.
О Боже! О боги! О люди!
Быть такой беспомощной даже хуже, чем быть живой.
Наша нужда друг в друге, неизвестно по какой причине, подошла к концу. И в этом конце я вижу необходимость моей собственной кончины.
Моей кончины. Да. Надо тренироваться и почаще произносить слова, относящиеся к смерти. Гибель. Успокоенue.Уничтоженuе. Конец. Уход. Небытuе.
Как же это банально! И бессмысленно. Надеюсь, ты сейчас смеешься. Я, например, смеюсь.
Je suis passee, monsieur. (я прошла, месье, фр.) жизнь тоже passee.
Смейся, Пилигрим, смейся. Один из нас дошел до конца.
Я исполнила свой долг. Я любила смертного, произвела на свет смертных детей, страдала от смертности во всех ее многочисленных проявлениях. Мне повезло родиться в самом привилегированном кругу. Я видела несправедливости — и исправляла их. А иногда не могла исправить. Я была очень — целиком и полностью! — земной. И все же…
Мы все прощаем себя, верно? Прощаем себя и виним кого-то другого — не называя его по имени, но прекрасно видя краешком глаза. Когда нам нужно, всегда находится тот, на кого можно свалить вину. Но только не на себя. На себя — никогда, никогда.
Ныне, в мой предсмертный час, я жалею об этом больше всего, мой дорогой Пилигрим, если не считать того, что я теряю тебя. Мне жаль, что я так часто винила других за свои собственные ошибки. Или же за нехватку терпимости. Я считала, что мужчины не должны любить мужчин, а женщины женщин, что бедность — вина самих бедняков (как я могла так думать?!) и что «благо» — такая штука, которую правительство может определить своими декретами. Бог ты мой! Если мы творим законы, это еще не значит, что мы способны очертить границы чьих-то потребностей, радостей и верований. Как смеем мы определять, что такое «благо» для других, если самим нам его даровали свыше?