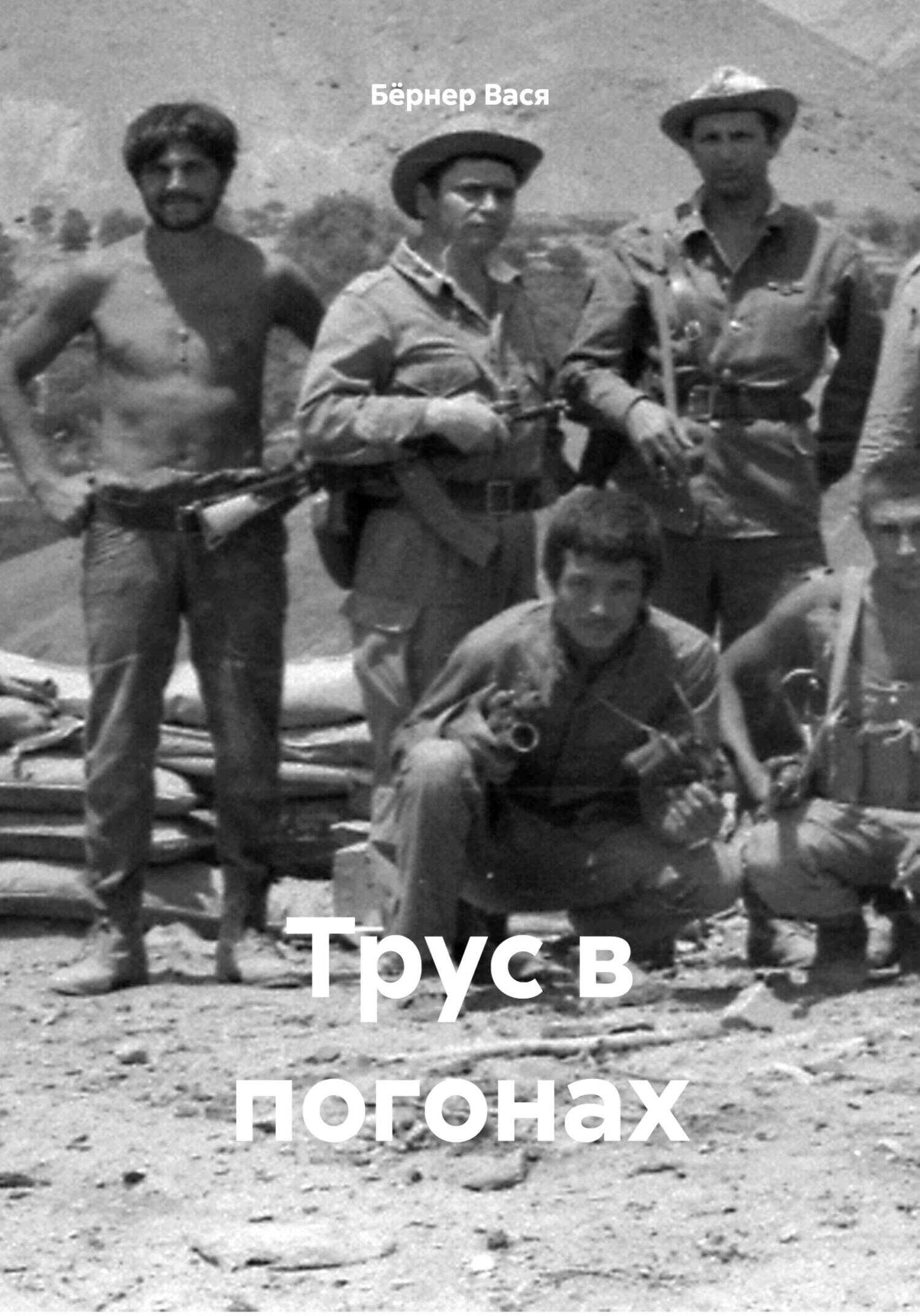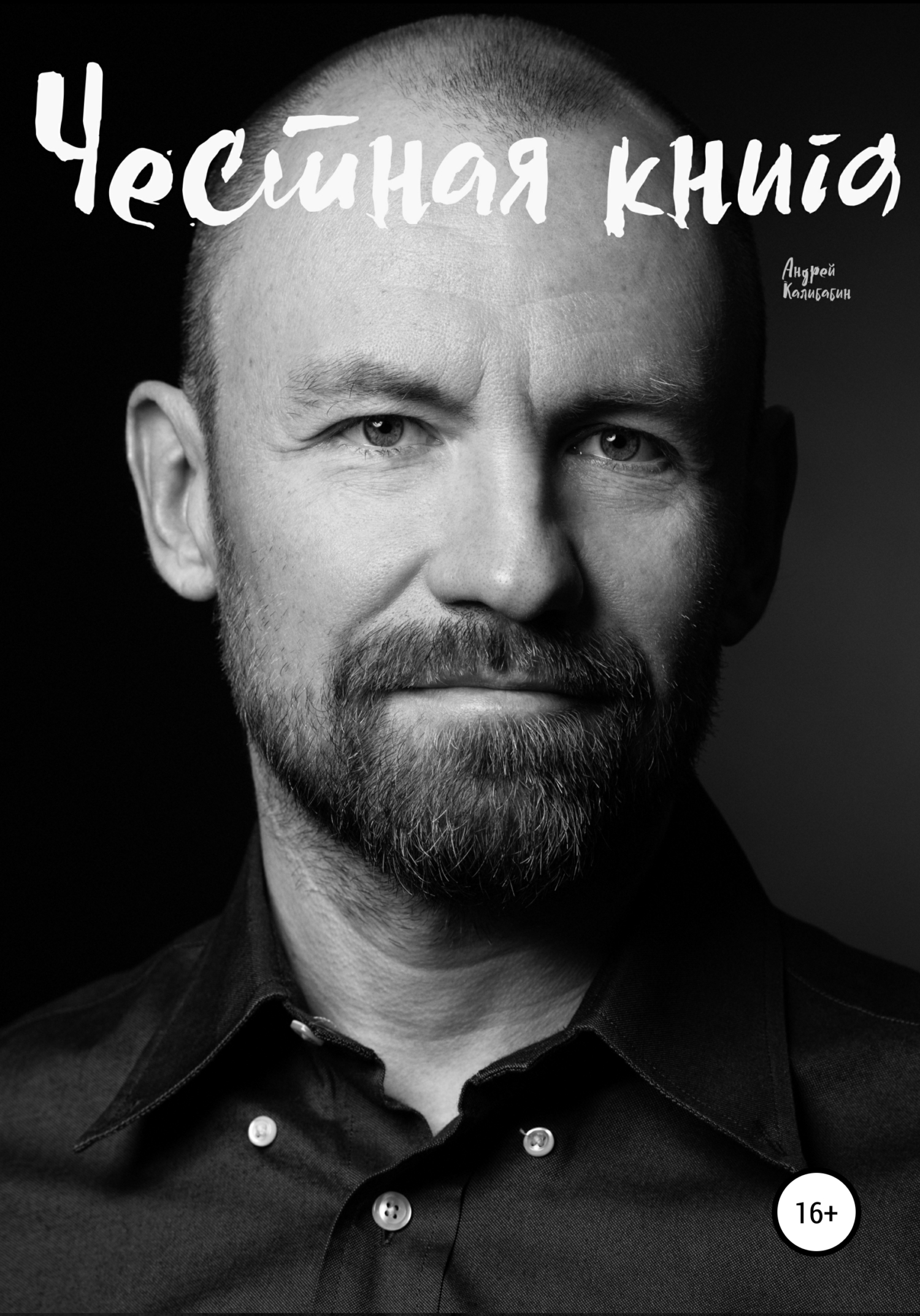заискивающе, высоким бабьим голосом воркует Либединский. — Я ведь его еще там — в степи — художником называл…
— Напрасно вы волнуетесь, — подходит Гольдрей. — Плюньте, Семенов! В прошлом это все.
— Действительно! — подтверждает Дюрер. — Да и к чему Семенову пахать или керосин охранять! Рисовать ему надо!
— Вот эт-то точно! — радостно всплескивает руками его друг летчик. — Товарищ Семенов! Дайте я вас расцелую, мать дорога! Гордость вы наша! Вот я за вами прилетел — пора на Север!
— Да что вы все прилипли к нему! — возмущается Монна-Лида. — Мне его отдайте. Миленький ты мой, — она гладит Семенова по голове. — Я ж все равно тебя люблю!
«Какие руки нежные!» — думает Семенов.
Он взглянул на нее внимательно и вдруг увидел, что это вовсе не Монна-Лида — а мать его: в том же сереньком старом платье, в котором тогда уходила, седая…
— Мама! — несказанно обрадовался Семенов. — И ты здесь?
— Здесь, здесь! Ты только не волнуйся, тебе нельзя… приляг вот на тахту… Теперь мы никогда не расстанемся…
Семенов ложится: это же Эмилия!
— Привет, старик! — говорит Эмилия странным голосом.
И Семенов видит, что лежит вовсе не на тахте, а в прохладных струях Вангыра — голова на камне — и в лицо ему заглядывает знакомый скелет…
— Как это ты здесь очутился? — удивляется Семенов. — Ты же в Самаркандском училище стоишь, я по тебе анатомию изучал…
— Какая там анатомия! — скалится скелет. — Я Двойник твой — не узнал?
— Врешь! — крикнул Семенов.
— Сам знаешь, что не вру! — лязгает скелет. — И этот вернисаж тоже я устроил — напомнить тебе кой о чем… Хоть ты меня и убил, а живой я, курилка! Назло тебе!
— Проклятый! — прохрипел Семенов, силясь подняться из Вангыра. — и очнулся… он с удивлением увидел темную полосу бурлящей реки далеко внизу…
148
Он все еще сидел на скале, глядя в уходящий день: провожал взглядом красный диск солнца, скатывавшийся по склону горы, — солнце уходило в ночь. И все уходило в ночь: освещенные снизу облака и тайга, освещенная сверху, и горы, побледневшие от разлитого света — как за розовой занавеской. Все уходило в ночь. И Семенов уходил в ночь, сидя на освещенной лучами скале…
«Многое мне тут вспомнилось… и еще больше надо вспомнить… Времени-то впереди много: месяц! Сегодня ночью еще вспоминать буду — во сне — и завтра… Все вспомню, обдумаю, отдохну. А потом вернусь — и за работу! Главное — вперед!»
«И с Лидой все-таки увидеться надо бы, — подумал он еще. — Вернусь в Москву — позвоню ей… а то нехорошо как-то…»
149
«Странно, что я вижу во снах не тех, кто сейчас со мной в Москве, — продолжал размышлять Семенов. — Ни жену не вижу, ни детей… И из Союза художников — никого… Только тех, кто уже умерли или потерялись на моих дальних дорогах», — он стал мысленно пересчитывать…
Умер его отец — наивный коммунист — член партии с 1905 года, — погиб где-то здесь, на Севере, неизвестно даже в котором году; умерла мать — в противоположном конце страны, в тюрьме номер один города Фрунзе, о чем он знает точно, ибо так написано было в справке о реабилитации; умерла его набожная тетка Фруза Гавриловна; потерялся после войны лучший друг детства, который отбил у него первую любовь, за что он ему сейчас заочно благодарен; умер ложный бог искусства Беньков, а подлинный — Гольдрей — застрял где-то в залитой солнцем Средней Азии; умер Барило — еще когда Семенов был в командировке в колхозе: под конец Барило присылал за ним проститься и сказал перед смертью только одну фразу: «Прости, Петя, зверем был»; исчезла бесследно рыжая дама, которая дважды не принимала его в МИПиДИ, — а ее-то он так хотел повидать; потерялся по тюрьмам бригадир Гинтер — сел-таки за свои темные махинации… и Эмилия Яцентовна в своей Литве умерла… никого не осталось. А те, которые еще живы, которых он даже в Москве иногда видит — как, например, Сима и Фима, — те, еще живые для самих себя и для других, давно уже умерли для него…
— А Лиде надо будет позвонить! — сказал он опять.
150
Семенов встал: дышалось легко, без боли… Он посмотрел вдаль и увидел своих коней на лугу — они кланялись ему тонкими головами — трава бежала волнами к горизонту — и Семенов лежал в ней — на спине — раскинув руки — смотрел в небо.
Цепляясь рукой за редкие елочки и выступы скалы, он стал скользить вниз по хвойной тропинке…
151
— Надо всех в одной картине написать, — разговаривал он с собой вслух. — И себя тоже. И назову я эту картину «Реквием». Обнаженными всех напишу… или в простынях, как в бане… и всех в движении, в разговоре друг с другом… и себя напишу тоже…
— Вот это хорошо! — говорит сзади Дюрер. — И надо все это написать в серебристых тонах.
— Я и хочу в серебристых, — кивает Семенов. — Ну, а тех, кого я не люблю, — предателей — вписывать?
— Вписывать, — говорит Дюрер. — Это жизнь…
— И я так думаю, — соглашается Семенов. — Но тут у меня еще одна мысль… о матери…
— Какая?
— Я вам уже, кажется, говорил: как мне ей поклон передать? Как ей передать, что я жив, победил! И что сбылись все ее мечты обо мне?
— Дорогой мой Семенов, — странно глядя на него, говорит Дюрер. — Я уверен, что вы скоро встретитесь… и все ей сами расскажете…
— Но… — сказал было Семенов — и не кончил.
Он хотел сказать, что не верит ни в Бога, ни в черта, ни в загробную жизнь, но решил вдруг, что это будет бестактно…
— Эх, я бы и сам написал такой «Реквием»! — сказал с завистью Дюрер. — Идея идеальная! Как она мне в голову не пришла? Давайте вместе напишем?
— Нет уж, — возразил Семенов. — Это моя вещь… я ее сам напишу…
152
Он уже спустился к реке и шел теперь вдоль плоского каменного берега между скал — обходя одинокие камни — к своей семужной яме. Большой шар солнца вновь показался справа от второй скалы — и длинные лучи его осветили поверхность реки, и берег, и человека в комбинезоне, звенящего каблуками по гальке… Белая блесна на кончике спиннинга — болтаясь на карабине — все время вспыхивала, поворачиваясь к солнцу то выпуклой, то вогнутой стороной…
153
Он отцепил от верхнего колечка спиннинга блесну и — держа ее в руке — вошел в воду. Дно было ровным, усыпанным, как и весь берег, мелкою галькой, которую Семенов теперь ощущал в мутной воде подошвами. Волнуясь, смотрел он в пенные, освещенные красным солнцем волны над ямой — куда он сейчас блесну бросит…
154
Небо между тем совсем очистилось. На востоке оно было зеленовато-синее, холодное, и все там