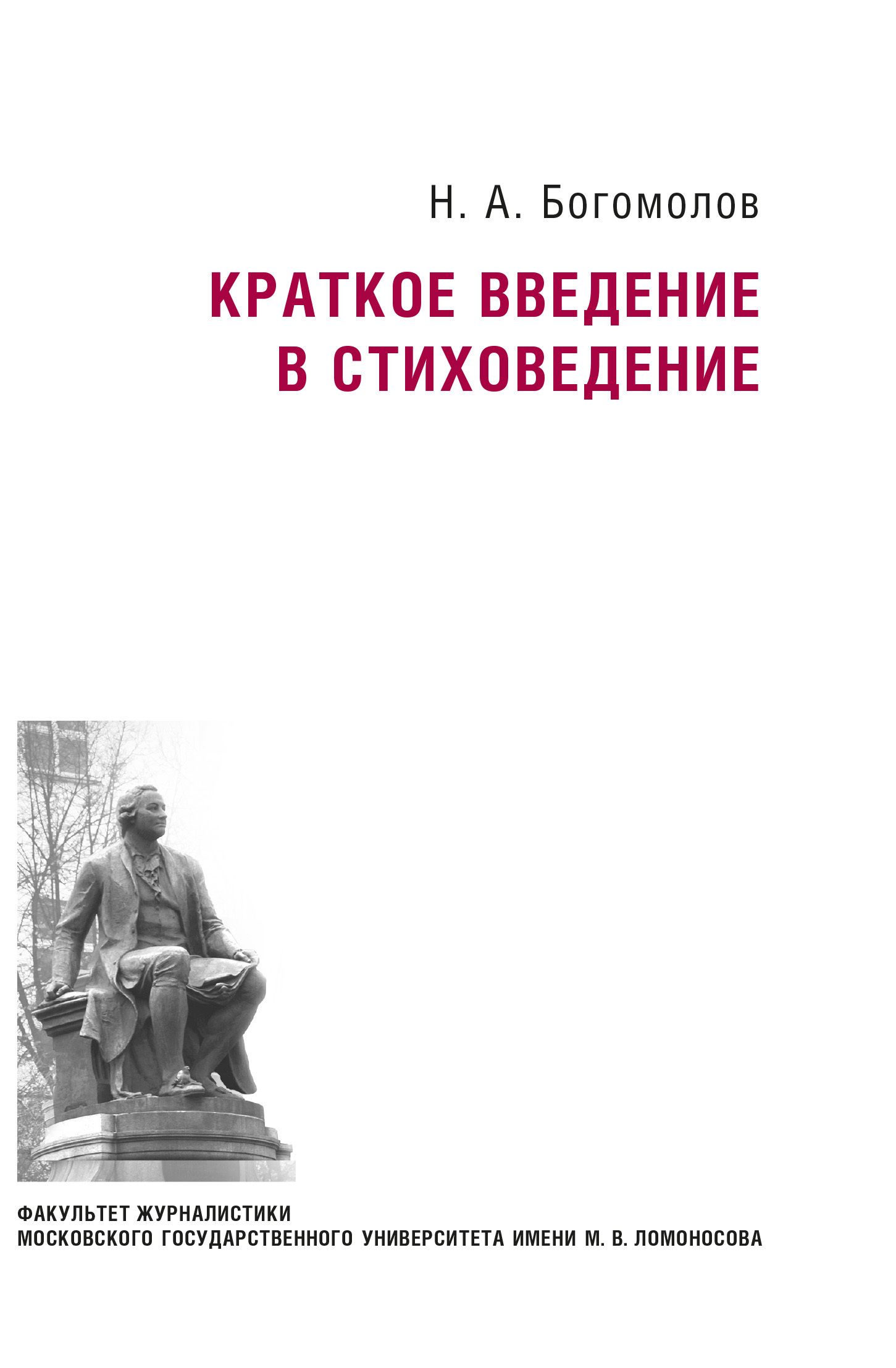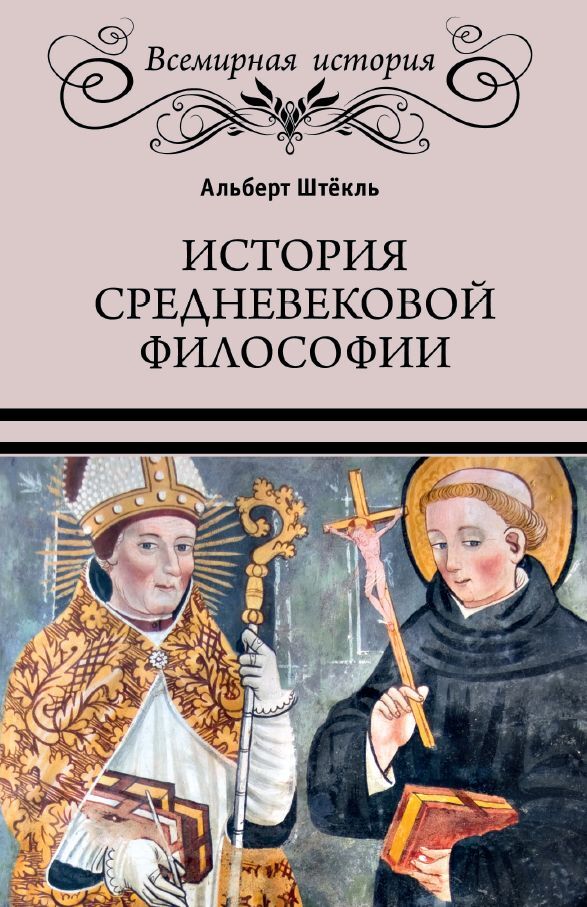– с клеветническим бытописанием повседневья, которого оазис – на полуслове оборванный банный скабрез [Гольдштейн 2004:15].
И также далее:
<…> все было легче соломы и теряло себя. Эгейское море, ветер, песня, соленые паруса. Ультрамарин аллей, закапанных слезами шиитов. И типографии Дубровника, неужели? Да, и они. Свечи субботы в фортах баухауза Палестины. Хануккальные звери хасидских подсвечников Умани, так ведь? Венецианские альды с якорем и дельфином [Гольдштейн 2004: 27].
Эстетическое чутье и интуиция автора вынуждают дискурс проговариваться о том, что империя есть искусство и искусство есть империя, несмотря на его политические убеждения и философские амбиции, которые навязывают его мысли модные готовые схемы сглаженного постмодернистской иронией постимпериализма.
Между приверженностью этнической нации и восхищением политической империей находится территория подлинной империи – той, власть которой рассказчик признает безоговорочно: это империя красоты, воплощенная в искусстве. В отличие от первой, она не лишает ее приверженцев свободы, и, в отличие от второй, она не столь временна и произвольна. Красота – это идеальная, свободная и вечная империя без случайных границ и без законов необходимости, контингентная и в силу этого реально бытийствующая по ту сторону конечности, говоря словами Мейясу [Мейясу 2015]. Отсюда столь сложное отношение к нации. С одной стороны, «нет слова мощнее, чем нация <…>, о нация, нация, все мое от тебя, я капля из дождевой твоей тучи» [Гольдштейн 2004: 20–21], а с другой – «лишенцы предоставлены пестовать в себе нацию» [Гольдштейн 2004: 28]. Самоопределение «лишенец» хорошо согласуется как с виктимной парадигмой, довлеющей в романе, в которой разворачивается мрачное соревнование между евреями и армянами за роль ультимативной жертвы, так и с поэтикой «нехваток» и потерь, последовательно и сознательно применяемой автором. Но в то же время из всех этих нехваток складывается некая новая полнота, по самой своей сути неуловимая, но охватывающая все, чего она касается: эстетическая полнота империи. Если литература, в отличие от «художественной традиции», культивирует «признание вины и страдание» [Гольдштейн 2004: 117], то, с другой стороны, «самооговор [есть] предельное произведение искусства», «убийство в сочетании с раскаянием есть высшее деяние творчества» [Гольдштейн 2004: 118].
Воспроизводя и отчасти пародируя декадентское мировоззрение, Гольдштейн превращает его в мифологию, способную существовать уже вне исторического контекста, ее породившего, служащую для него тем языком, на котором он излагает открытое им знание об окружающем его мире. Основу мифологизма в данном случае составляет та чудесная нетрудность, с которой нехватка превращается во всеохватную полноту, а страдание и жертвенность – в красоту. Так, например, забвение может быть компенсировано тем, что Рикёр вслед за А. Бергсоном и Фрейдом называет «работой вспоминания» [Ricoeur 2004: 56], но заполнение пустот бывшего не в силах создать полноту всего, то есть включающего также и не бывшее, и возможное, и даже невозможное. На это способно только творчество, захватывающее, как объект желания, все данное и не-данное, но не с помощью политэкономии нехватки и достатка, забвения и вспоминания, а только чудом ничем не объяснимого прыжка красоты, подобного прыжку веры. Рожденное этим прыжком пространство тотальности и есть империя в мире Гольдштейна.
Франкфуртская школа и постструктурализм создали популярную концепцию, согласно которой политизация искусства призвана развенчать, критически осмыслить и оспорить механизмы пропаганды и лжи, заложенные в эстетизации политики [Беньямин 1996: 65]. Мифопоэзис Гольдштейна обнаруживает, что эта концепция по крайней мере двусмысленна. Во-первых, она указывает на то, что эстетизация политики отнюдь не является простым и самоочевидным термином. Он способен относиться и к такому узкому явлению, как пропагандистская риторика, и к такому широкому явлению, как искусство, когда уже любой эстетический объект или суждение может быть представлено как скрываемая прибавочная стоимость политического капитала. В таком случае эстетизация политики становится оценочным и моральным суждением, причем явно негативным, а не научным термином. Во-вторых, эстетизация политики была бы невозможна, если бы политика не была доступна для этого, как доступна, например, природа, чувства, поведение, тело и его движения. Другими словами, политика есть в некотором своем аспекте политизированная эстетика, и именно на доказательство этого факта направлены многие из фрагментов романа Гольдштейна. Но если он прав, то эстетизация политики – не ложь, а, напротив, выявление в политике ее глубоко скрытой эстетической истины, то есть красоты, а политизация искусства – не критика, а возвращение эстетического к его наиболее примитивным, архаическим, племенным и религиозным истокам, то есть к политическим мотивам, что также служит обнаружению истины. В мифологии Гольдштейна эстетика и политика – одно, а потому ни их взаимная трансформация, ни их взаимная критика невозможны, разве что в рамках шизофренического сознания, которое, впрочем, и являет себя миру в философии Делёза [Делёз, Гваттари 2007].
Но здесь и обнаруживается глубокое отличие Гольдштейна от последнего и от других предтеч постмодернизма: его мир лишен критической двойственности, он гиперэстетичен и гиперреалистичен, но не в позднебодрияровском, то есть крайне пессимистичном и апокалиптическом, смысле слова [Бодрийяр 2019: 138–150], а в раннебодрияровском, то есть культурологическом, взвешенно научном смысле [Бодрийяр 2000: 147–155]. Другими словами, у Гольдштейна любая вещь и любой поступок есть всегда уже одновременно и политический акт, и эстетический объект, и это единство само по себе не хорошо и не плохо, не истинно и не ложно, а составляет суть бытия этой вещи или этого поступка. Это единство как таковое не политично и не эстетично, в отличие от того, как оно воспринималось, например, в 1920-е годы; оно реалистично в том смысле, какой вкладывают в это понятие Харман и Мейясу, и который уже не раз упоминался выше: в нем заключена неинструментальная, несхватываемая объектность вещи, скрытая за пределами ее конечности. Это осознание несхватываемости, отчужденности бытия эстетического-политического объекта создает ту иронию Гольдштейна, которая по ошибке может быть принята за постмодернистскую иронию. Диагностируемое им «прощание с пафосом» [Гольдштейн 2009: 219–227] есть выдаваемое за действительное желаемое расставание с конечностью, которой свойственно двойственное критическое сознание, в этом смысле неожиданно совпадающее с архаическим и племенным. Расставание же с конечностью есть для Гольдштейна встреча с империей.
Вся история, и прежде всего не история стран, а история идей, овладевающих массами, или того, что Гольдштейн называет «политическими организмами», есть история империй, когда одна «заново отстроенная империя [дает приют] останкам другой» [Гольдштейн 2004: 221]. Как и мифы, империи не исчезают и даже не разрушаются, а лишь превращаются в другие империи. Каждая рождающаяся идея, каждый организм стремится захватить все, что ему доступно, и останавливает его лишь такое же стремление другого организма. Однако это ограничение со стороны другого носит искусственный, внешний характер, оно не меняет