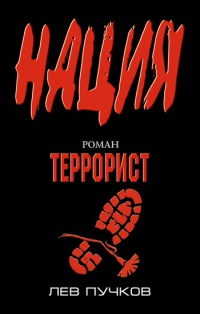Я сел на крыльцо и снова выбрал номер лаборатории. Гудки, гудки – до тех пор пока и здесь не включился автоответчик. Значит, Элен уже ушла, отправилась домой заниматься любовью со своим Игорем, или Иваном, или как там, черт возьми, его зовут.
Собаки не успокаивались, продолжали отрывисто лаять. Может быть, доктор Тобел отправилась на прогулку или выпить чашку кофе – мало ли куда? Скоро вернется. Конечно, для семидесятилетней больной женщины поведение довольно странное, но из всех возможных объяснений я бы выбрал именно это.
Я просидел минут двадцать. Уже перевалило за одиннадцать. Я снова позвонил, подергал ручку двери. Звонок разнесся по дому, ручка повернулась, но отозвались опять лишь собаки. Я прошел вдоль дома. От парадной двери к внешней стене тянулась широкая веранда. На нее из столовой выходило французское окно. Я заглянул в комнату, однако рассмотреть так ничего и не смог. Собаки бежали за мной по дому и с диким лаем начали бросаться на меня с другой стороны толстого стекла. Да, в таком шуме вряд ли можно спать. Черт возьми, что же это значит?
– Доктор Тобел!
Я постучал в стекло. Снова набрал ее номер – в доме опять зазвенело сразу несколько телефонов. Пять сигналов, потом автоответчик:
– Вы позвонили…
Я толкнул французское окно. Заперто. Пробираясь сквозь заросли гиацинтов, лавров и прочих разнообразных растений, выращенных четой Тобел за долгую жизнь, обошел весь дом по периметру. Собаки, не замолкая ни на секунду, сопровождали меня внутри дома – лай их то удалялся, то приближался, в зависимости от его местоположения. Все двери оказались на запоре.
Машина под навесом, собаки в доме, не привязанные, свет наверху, молчаливый дом…
Я поднял камень и снова подошел к французскому окну. Держа камень в руке, стукнул им в стекло возле ручки. Стекло не разбилось. Тогда я отошел на несколько шагов и швырнул камень. В стекле образовалась неровная дыра с острыми, опасными краями; собаки пришли в бешенство, а камень покатился по ковру. Я просунул руку сквозь дыру и отпер замок. Вытаскивая руку обратно, задел стекло, и оно резко полоснуло по запястью: от пореза длиной в два дюйма тут же закапала кровь.
И вот я наконец в доме. Сходят с ума от бешенства две таксы. Одна из них от напряжения и нервного расстройства даже помочилась прямо на пол. Возле обеденного стола открытая клетка. Я снова позвал доктора Тобел, однако голос утонул в коврах, книгах и собачьем лае. В прежние годы я несколько раз бывал в этом доме и сейчас вспомнил расположение комнат: направо кухня, налево лестница и большая гостиная, спальни и кабинеты наверху.
Из кухни не раздавалось ни звука, но я все-таки прошел туда, надеясь не увидеть Хэрриет распростертой на полу. Кухня выглядела совершенно безмятежно. Взяв бумажное полотенце, я зажал им рану на руке, пытаясь остановить кровь. Прошел в гостиную, потом направился к лестнице.
– Доктор Тобел! Это Нат Маккормик! – снова позвал я. – С вами все в порядке?
Поднялся по лестнице и свернул в застеленный ковровой дорожкой коридор. В слегка приоткрытую дверь просачивался свет. Уже не церемонясь, я толкнул дверь и вошел в комнату.
– Доктор Тобел?
Кровать стояла в противоположном конце комнаты, и покрывало на ней было немного сбито – на нем явно лежали. В изголовье горела лампа, но ни книги, ни каких-либо бумаг я не увидел. Рядом с кроватью стоял массивный комод, на нем масса фотографий в разнообразных серебряных рамках. Справа оказалась открытой еще одна дверь, и за ней тоже горел свет, только дневной. Ванная комната.
– Доктор Тобел?
Трость валялась на полу – половина в спальне на ковре, половина – на кафельном полу ванной. Еще пара шагов, и я очутился возле ванны; вдоль нее распростерлось тело моей наставницы: одна трость рядом, другая возле двери, руки и ноги беспорядочно разбросаны. На полу валялась открытая, янтарного цвета бутылочка, из которой высыпались крошечные белые таблетки – они были и на полу, и в раковине, и на самом теле.
Доктор Тобел лежала с полузакрытыми глазами и искаженным гримасой ртом. Я быстро присел рядом и прижал пальцы к шее: пульса не было. Из ящика возле раковины достал зеркальце и поднес его к губам и носу Хэрриет. Оно осталось совершенно чистым. Дыхания тоже не было.
– О нет! – воскликнул я и, с трудом переставляя ноги, вышел из ванной.
51
Я заметил, что нередко вся полнота впечатлений от другого человека концентрируется в каком-то одном воспоминании, и это воспоминание становится конспектом отношений. Воспоминанием этим может оказаться последняя встреча или машущая вслед, удаляющаяся и бледнеющая фигура в зеркале заднего вида. Вспоминая собственного отца, например, я прежде всего вижу красное лицо пьяницы, искаженное яростью и слегка отмеченное страхом: он только что ударил сына ремнем прямо по лицу. И именно из этого воспоминания уже вытекает все остальное: и хорошее, и плохое.
Тем более странно, что самые смелые мои воспоминания о Хэрриет Тобел на самом деле мне не принадлежат. Да и она лично в них не фигурирует. Они пришли из устной традиции медицинского факультета, той самой, которая увековечивает дух учебного заведения, его самые интересные особенности, самых знаменитых, равно как и печально известных выпускников. То есть, если выражаться прямо, свои первые впечатления о докторе Тобел я получил по слухам.
С самых первых недель студенческой жизни мы все узнали, что доктор Тобел – это та самая увечная профессорша, которая с трудом добирается от лаборатории до деканата, а оттуда до аудитории. Если не учитывать тот факт, что она все-таки была способна проделать свой путь из пункта А в пункт Б без посторонней помощи, я так никогда и не мог понять, почему она выбрала в качестве средства передвижения именно две палки, а, скажем, не инвалидное кресло. И хотя она стала моим преподавателем и виделись мы достаточно часто, я так ни разу и не осмелился это выяснить.
Но это еще не воспоминание, пусть даже и чужое. Воспоминание передано мне отчаянным четверокурсником-медиком в первые же дни учебы и заключается в следующем: Хэрриет Тобел ковыляет со своими палками на поле для гольфа к метке для мяча, а кто-нибудь подает ей клюшку. Стремительным движением она поднимает клюшку, бросает палки, бьет по мячу и падает на землю. Легенда гласила, что такое могло повторяться и девять, и восемнадцать раз: движение, удар, падение. История эта вмещала в себя и жизнь, и характер. Подобно рассказу о Джордже Вашингтоне и вишневом дереве или о Теодоре Рузвельте и наступлении на гору Сан-Хуан.
Вот так я и сидел на ковре в спальне старой леди, глядя сквозь открытую дверь ванной комнаты. Кровь из пореза на руке продолжала сочиться, постепенно пропитывая полотенце. Единственный человек на свете, которого я любил беззаветно, умер.
Первый шок постепенно прошел. Я поднялся, высморкался и вытер глаза. И хотя голова все еще отказывалась работать в нормальном режиме, я все-таки попытался мыслить объективно. Что ни говори, а я все-таки врач. Или эпидемиолог, или медицинский детектив, или еще черт знает что.