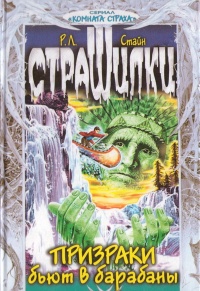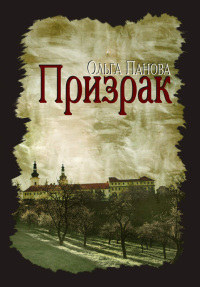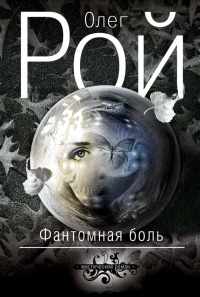Я хмыкнула, нервно, попривычке, прокрутив ключи напальце.
Изба всегда была ветхой икособокой. Сбалок сыпались жучки икусочки мха, встенах скреблись мыши, изподпола тянуло плесенью. Еслимы предлагали бабушке помочь, онаупиралась: ничего ненадо, мневсе подуше,– издесь так ничего ине изменилось. Разве что сильнее провалилась крыша да потускнела непобеленная печь. Избабудто состояла изпещерных альковов илимонастырских келий– низкая, коренастая, тесная. Точь-в-точь землянка, водрузившаяся накурьи ножки. Когда маленькую меня оставляли вней одну, яорала, захлебываясь, идаже теперь помнила, какпочтенный дом нежелал меня всебе. Онхотел, чтобы живое, любопытное замолчало, аяобливалась слезами, обещала быть хорошей, только, пожалуйста, небросайте меня, будьте сомной рядом.
Мурашки, прокатившиеся попозвоночнику, ясписала наусталость– ипринялась выгружать вещи измашины.
Обустройство язавершила уже вечером, осознав, чтопредметы едва различимы врастекшихся сумерках.
Вдалеке зажглись огни: какскитающиеся фонарики, пляшущие нахолмах. Включив свет вкаждой комнате, яизвлекла изшкафа железную лампу, которую бабушка приторачивала ккрыльцу; подбалкой какраз сохранился крючок, иее получилось пристроить так, чтобы она освещала террасу, гдеяпланировала скоротать ночь. Кореолу тутже слетелись мотыльки. Воздух остывал, нояскорее промерзлабы насквозь, нежели вернулась визбу, и,пока кипятился чайник, поставила подкозырек около входной двери стул: точно туда, гдеотдыхала бабушка– обмахиваясь веером иумиляясь кошкам, чтодремали вложбинке между двумя стволами ее рябины.
Чашка скофе приятно обожгла ладони; яизвлекла сигарету изупаковки, ноне закурила. Бабушка невыносила табачный дым икурить выпроваживала зазабор. Вее закутке накрыльце благоухало анютиными глазками, пересаженными вгоршки, идавным-давно лишь вэтом крошечном углу вовсей деревне ячувствовала себя вбезопасности. Еслиуспеть спрятаться внем, ничто непосмеет тебя ранить илипоймать, каквсвященной игре снерушимыми правилами: кто«вдомике», тотнеприкасаем.
Фильтр яприхватила лишь губами, пока застегивала намолнию толстовку, иуже почти убрала сигарету обратно, когда поблизости раздался топот копыт. Яотвлеклась, озираясь: лошадей вокрестностях разводили, но, вотличие откоров, деревенским обочинам они предпочитали пастбища. Этаже скакала бодро, галопом– несла всадника.
Всадницу.
Они остановились около машины; лошадь– конь– всхрапнула, мотнув головой. Упругие мышцы перекатывались подвзмыленной шерстью; он пританцовывал, косясь нахозяйку– почему нельзя бежать дальше? Встойле чахнуть ему явно непозволяли– как, должно быть, онупивался свободой…
–Тетя Аглая нелюбиладым.
Голос увсадницы был гулким, гортанным. Сигарету изорта явынула рефлекторно.
Смотрела она мрачно– толи наменя, толи начто-то замоей спиной. Ямахнула рукой, приветствуя ее,– онаничего несказала, ноиконя непришпорила. Пришпоривать его, впрочем, было нечем– управляла она им безседла ибез сбруи; наверное, упивалась свободой тоже. Оттого, чтобы обернуться– убедиться, чтопозади ничего нет,– яудержалась титаническим усилием. Исама незаметила, каквпилась вдеревянные перила. Выуживать занозы будет тем еще удовольствием.
–Тызнала мою бабушку?
Она дернула плечом. Коньпереступил сноги наногу, нонаездница нешелохнулась, продолжая высматривать что-то замной. Зажигалка стала нестерпимо соблазнительной; чтобы здесь нипроисходило, мнеэто ненравилось. Ниюная дева, понукающая разгоряченного скакуна прямиком влес, нито, какона отклонялась туда, гдетени гуще, асвет реже; нито, насколько склизко сжалось вмоем собственном желудке.
Отвымученной улыбки свело скулы.
–Меня зовут Лера.
Всадница неторопилась, чего-то хотела. Демонстративно медленно зашнуровав кроссовки, яспустилась поступеням. Семьшагов поподъездной дорожке, истошный скрип щеколды. Еслибы девушка исчезла– словно туман, безединого звука,– ябы неудивилась. Ноона даже снизошла дотого, чтобы спешиться искупо бросить:
–Настя.
Нируки длярукопожатия, никивка. Вблизи ее глаза оказались абсолютно черными, какуохотничьегопса.
–Тысюда надолго?
Теперь плечом дернула ужея:
–Пока неприведу все впорядок. Такты знала ее? Яне видела тебя напохоронах.
–Янехожу напохороны.
Сверчки внеповоротливой тишине стрекотали едвали неистерически, ирваным жестом явсе-таки зажгла сигарету. Обычно это считывалось каквызов, нодевушка– Настя– неотреагировала примерно никак: лишь зрачки метнулись, прослеживая движение, нозатем взгляд ее снова рассеялся, словно она отстранилась куда-то– подальше отсюда.
–Чтож,– хмыкнулая,– славно поболтали. Втаком случае…
И, отсалютовав ей, открыла калитку– снамерением драматично ею хлопнуть; яуже почти шагнула водвор, когда она окликнула– чуть мягче, будто нерешительно:
–Допоздна незасиживайся. Идвери наночь запри. Каждую.
Прежде чем явозмутиласьбы, илипереспросила, илиотшутилась, онавзмыла налошадь итремя мощными рывками скрылась подплакучими березовыми ветвями. Тедаже незацепились заее волосы; ничто невзволновалось вотьме, будто наездница иее конь принадлежали чаще ирастворились вней, словно ветер.
Иногда ястаралась раскопать, вкакой момент жизнь ушла изэтого дома. Холод всегда пронизывал его, ноот сквозняков, гуляющих пополу, иот стен, зимой остывавших, едва догорали дрова, мыспасались легко: шерстяными носками ишалями. Ввечера после Нового года бабушка заворачивала нас обеих водеяла, имы читали сказки, прильнув кпышущей жаром печи.
Нооднажды тепло иссякло. Печьнетрещала задорно– огонь нераспалялся вней; пища, угольная навкус, неутоляла голод. Покоридору мы крались нацыпочках: шумоскорблял кого-то, ктопоселился здесь. Язамечала его, напериферии зрения. Он– илиони, ведь волки сбиваются встаи,– ложился подполовицы истонал, словно искал свою могилу.
Я неходила накладбища; только набабушкины похороны. Накладбищах становилось дурно: порой яне могла распрямить ноги, настолько их сводило судорогами. Опускаясь внаполненную кипятком ванну, удерживала собственные трясущиеся голени– будто ивних проникало что-то, крало часть моего тела. Длямест, гдемертвые наслаждаются вечным сном, бодрствовало там слишком многое. Ате, чтоспали, могли спать ибез меня.
Незадолго дотого, какбабушка уехала налечение, мыпили чай впередней. Беседа нескладывалась; часы раздражающе тикали, неумолимо отмеривая время. Яобожгла язык, ноедва обратила наэто внимание: чайбыл какмокрая бумага. И,будто изниоткуда, изменя выскользнуло:
–Яздесь неощущаю себя живой. Разве что наполовину.
–Леса здесь старые. Поколениями пилят, пилят, данеспилят никак. Двевойны, революция, ачто еще раньше было, одному Богу известно… сколько вних людей померло, сколько так пропало. Нечаща, апогост.