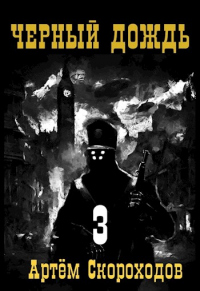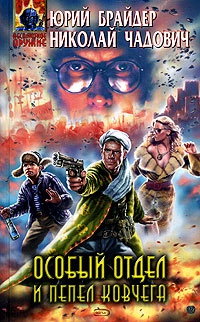– Система отверстий? – предлагает он.
– Может быть, перископ? – размышляет Железбок.
– Или же шланг? – высказывается Кабийо.
– Или, – осмеливается Хиллбер, – более дерзкое, но эстетичное воплощение – миниатюрный воздушный шар?
– Да, верно! – Этот человек и впрямь гений!
Шир, шир, шир.
– Вот! Вон там! – вопит Кабийо, отводя взгляд от последнего наброска Хиллбера и тыча пальцем в рачка, укрывшегося на неровным краем раковины.
Sous-sous-sous-chef обеспокоенно отрывается от чистки:
– Да, сэр.
Шир, шир, шир.
Разве это не достижение – стать главой собственной кухни, лучшей кухни во всей Великобритании?
Достижение, которое Кабийо, некогда подававший водоросли в панировке с человеческой блевотой на борту «Бигля», имеет право отпраздновать.
И он отпразднует!
Шир, шир, шир.
Ях'чубыть
Тв'иммедвежонком
П'садим'няанацеэээпь, ув'зи меня, девчонка…[124]
Блэггерфилд, Нортонз-Криг, Уипперби. «Нюанс» ровно шла по автостраде, и я йодлем подпевал Элвису. Но недолго – вскоре собственный голос начал резать мне слух, пение превратилось в зевание, а потом стихло. Снаружи, чем дальше я ехал на юг, зелень становилась серее, а небоскребы выше. Прошел почти год, как я покинул Лондон, вдруг торкнуло меня. Боже. Впервые за долгое время я подумал о приемной в Тутинг-Бек и вдруг вспомнил мистера Манна, и тысячу евро, и Жизель в розовом платьице. И Иггли, и кремационный пакет, и письмо. И фразу «без колебаний». Я вздрогнул. Забавно: я уехал из-за одной обезьяны, а теперь возвращаюсь из-за другой.
Я глянул на фото мартышки-джентльмена, которое прилепил к приборной доске. Я подумывал взять чучело с собой в Лондон, показать эксперту в музее лично, но отверг эту идею. Слишком громоздкое. И, возможно, – волнующая мысль – слишком ценное. Поэтому я одолжил у близняшек поляроид и сделал пару снимков. Получилось не очень, но я спешил. Этот был лучшим, но все равно в жизни Джентльмен интереснее. Жесткий воротничок и панталоны тоже его не красили; такую одежду могла носить и обезьянка шарманщика. Наряд как-то ронял его достоинство. Я говорю «его», хотя все еще не ясно, мужская это особь или женская. Костюмчик мужской, но гениталии удалены подчистую. В трактате Скрэби говорилось, что это самец, но словам доктора не стоит доверять на все сто. Чокнутые с убеждениями – опасные люди. Я вспомнил о его нелепой гипотезе – «новой теории эволюции», как он ее называл. Весьма грандиозно. Хотя, быть может, идея и не казалась бредовой в те времена: викторианцы не знали о ДНК. И только где-то спустя столетие появились Докинс и Гулд.[125]
Я глядел на фото, и во мне снова закопошилось возбуждение – такое же, как в первый раз, когда я увидел обезьяну. Поистине примечательный экземпляр. Я понял, что у меня проснулся интерес к этому странному, почти человечному животному – интерес, какого не было с детства, когда я выкопал три четверти мумифицировавшейся лисы и хранил крысиные селезенки в холодильнике.
В полдень я остановился перекусить на заправке в Громмет-Хилл. Дожидаясь заказа, я разложил фотографии перед собой н одну задругой перебрал. Одним глазом я поглядывал на официантку; в наши дни нечасто увидишь девочку, не щеголяющую обязательным животом. На сиське у нее красовался бэдж: Я ПАУЛА, ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ? Когда она подошла к моему столику и принесла курицу с чипсами и салат на гарнир, я подробнее рассмотрел ее грудь.
– Простите, – сказал я, заметив ее смущение. – У меня дислексия.
– Здесь написано: «Я Паула, чем могу помочь?», – ответила она.
– Принеси мне колу, Паула, детка, – очень поможешь, – предложил я. И одарил ее взглядом а-ля Элвис – тем, от которого они тают от страсти. Но крошка не заметила моей изогнутой губы: она глядела на фотографии.
– О-о-о, какой милый, – сладко пропела она. – Обожаю детей. У меня шимпанзе. Сколько ему? Он у вас давно?
Господи, подумал я, сгребая фотографии. Страна сошла сума.
– Он мертв, – выпалил я.
В ее глазах тут же набухли слезы:
– Ой, мне так жаль! – пролепетала она, коснувшись моего плеча. – Как вы… его потеряли?
– Я его убил, – отрезал я, вспомнив Жизель. – Мне можно. Я ветеринар.
Это отправило ее в нокаут.
Граф Пото играл в лото…
Прежде чем уехать на паровозе на север, я воздал молитву на платформе: Господи, пусть я гонюсь за химерой. Пока мы, пыхтя, останавливались в каждом маленьком городишке по дороге в Лондон, я веселил себя скороговорками как мог, и читал названия населенных пунктов: Снэйлз-Рамп, Хинкли-Ферт, Нэйвзвуд-андер-Гэб, Блэггерфилд. Когда мы добрались до Громмет-Хилл, разум мой уже смыло осколками викингской тарабарщины.
В бок меня все время толкали локтем – женщина вязала странную пару рейтуз для сына. Она сообщила мне, что он танцует в труппе. Передняя ластовица была размером с торбу.
– Он настоящий мужчина, – сказала она, прочитав мои мысли, и рассмеялась.
Я из вежливости посмеялся вместе с ней, но смех прозвучал фальшиво. Если только мужской орган и нужен, то я тоже человек.
– А что делает человека человеком и мужчиной, мадам? – неожиданно спросил я.
– По мне, хватит, если он воспитанный джентльмен, – отозвалась она; на лице ее вдруг проступила усталость. – Говорит «пожалуйста» и «спасибо» и, если понадобится, пожертвует жизнью ради спасения другого.
Некоторое время я, погрузившись в раздумья, чесал блошиные укусы.
Когда я рассказал свою историю Киннонудве ночи назад, он поставил мне диагноз «помешательство» и прописал сперва горькую соль,[126]затем касторовое масло, затем опий. И теперь, пока паровоз пыхтел по равнинам Нортумберленда, направляясь на юг, я чувствовал, как действие трех лекарств заканчивается, и сердце сжимается от предательского беспокойства.
Нортонз-Криг, Уипперби, Бриль. Чем дальше мы продвигались на юг, тем выше становились деревья и пышнее растительность. На полчаса мы остановились в Нобб-он-Хамбер, где показалось солнце, озарив вагон лучами нежданного чуда, и женщина с вязанием предложила мне кусок цыплячьего бедра. Я вежливо отказался. Я ослаб от голода, пояснил я, но должен сегодня поголодать из-за моего червя. И тут она заметила на мне под шарфом неподобающий воротничок священника и принялась извиняться за необдуманное упоминание «штуковины» сына.