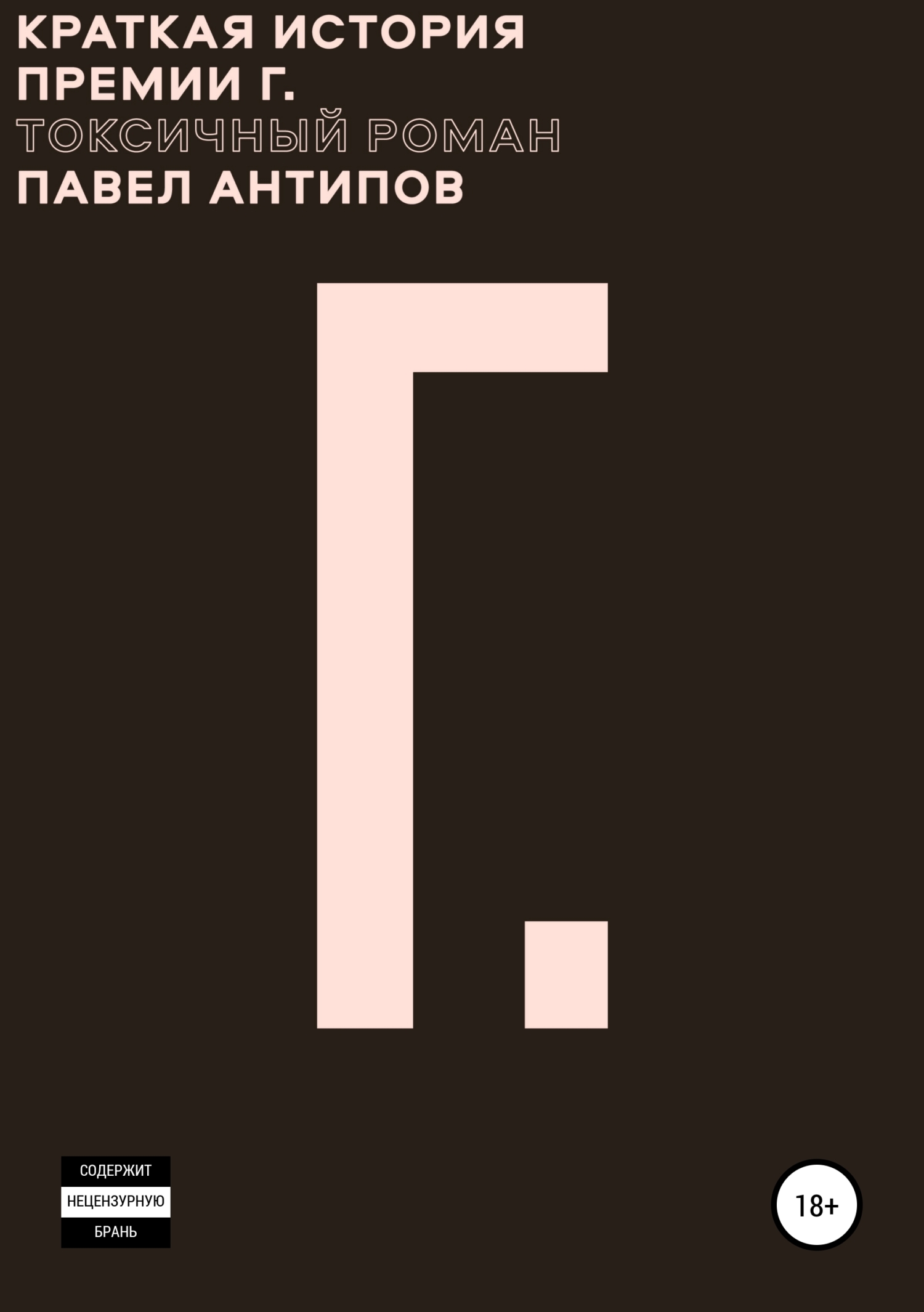представал в качестве человека довольно фанатичного, как бы глубоко и пылко преданного чему-то, но предмет его горячей убежденности, как правило, оставался достаточно подвижным, плавающим, и иногда создавалось впечатление, что он может быть любым. Я уже сказал, что Антоше хотелось поскорее покинуть пределы детства, поэтому, будучи ребенком, он изъяснялся на подчеркнуто взрослом языке, называл своих родителей Вика и Борис, отпускал тонкие саркастические шутки совершенно взрослого типа, иногда переходя на изысканный французский или английский язык, тщательно избегал детского сентиментального или фантазматического лепета, а также ему нравилось вступать со взрослыми в продолжительные и витиеватые дискуссии или даже в горячие споры на самые разные и неожиданные темы, причем в этих диспутах мой друг способен был потрясти своих собеседников остротой мысли и глубиной своего полемического дара, шквалом остроумнейших реплик и изворотливых аргументаций, он мог осыпать оппонента сотней язвительных игл или же поразить тщательно взвешенной паузой в ответ на какую-нибудь реплику, при этом в течение этой паузы он скептически искривлял губы и приподнимал брови, как бы изумляясь тому факту, что его доводы, столь очевидные и неоспоримые, всё еще отвергаются неуступчивым и твердолобым собеседником. В такие моменты казалось, что перед вами не карапуз, а какой-то изощреннейший парижский адвокат конца девятнадцатого века, защищающий, например, Дрейфуса на открытом судебном заседании, способный посрамить обвинение убийственной смесью, сотканной из остроумия, эрудиции, яда и человеколюбия.
Такого рода поведение маленького мальчика некоторых взрослых восхищало до глубины души, других же раздражало или даже бесило до посинения, так что, подобно тому как Франция прустовской эпохи разделялась на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров», так же и все известные мне тогда взрослые разделялись на «антонофилов» и «антонофобов». Это разделение никак не касалось нас, детей, потому что среди ровесников все любили и даже обожали Антона. Не припомню никого из наших ровесников, кто поддержал бы «антонофобские» тенденции, мы все были яростными «антонофилами».
В общем, сказать, что Антоша Носик был необычным ребенком, это всё равно что не сказать ничего. Потому что Антоша был не просто необычным, он был крайне необычным ребенком, и это было известно всем, так как маленький Антон являлся непревзойденным мастером по части привлечения к себе общественного внимания. Его спонтанные публичные выступления и неожиданные речи имели характер сверкающих эскапад или словесных фейерверков, способных безо всякого труда держать в напряжении практически любую аудиторию, начиная с потрясенной гардеробщицы в предбаннике какого-нибудь дома творчества и заканчивая сообществом взрослых интеллектуалов, собравшихся в мастерской Кабакова.
В спорах Антону нравилось занять позицию достаточно уязвимую и защищать ее с яростью. Вспоминается гигантский, многодневный спор о личности генерала Власова. Антону захотелось выступить в качестве адвоката генерала, в то время как в роли обвинителей на этом незапланированном процессе оказалась группа взрослых, включающая в себя, если не ошибаюсь, Кабакова и моего папу. Власов был советским генералом, оказавшимся в немецком плену во время Великой Отечественной войны. Он перешел на сторону немцев и возглавил так называемую Русскую освободительную армию (РОА), воевавшую бок о бок с германцами против советских войск. В конце войны схвачен и повешен как предатель. Антону захотелось доказать всем, что предателем этот генерал не был. Вначале было интересно внимать этому спору, но потом спор надоел, а он всё не кончался, всё длился, обретая новые витки и изгибы – казалось, между нами поселилось новое тело, тело спора, драконообразное и извивающееся, покрытое многоцветной и драгоценной чешуей.
В конце концов я подумал, что лучше бы генералу Власову и вовсе не появляться на свет. Но я был неправ – дело было не в генерале Власове, а в самом споре.
Нам с Антоном было лет по шесть, когда его мама Вика рассталась с его папой Борисом, уйдя от него к художнику Илье Кабакову, с которым ее познакомили мои родители. История этого развода полна драматических эпизодов, разводящиеся супруги превратились в два воюющих лагеря: Антон оказался между двух огней. Как я теперь понимаю, ему нелегко пришлось, тем более что Боря Носик вел себя в этой ситуации порой довольно отвратительно и в течение последующих лет пытался настраивать Антона против его мамы Вики и против Кабакова. Успеха это дело не имело, но, возможно, Антошина склонность к полемике коренится в том периоде, когда он, будучи маленьким мальчиком, оказался между двух конфликтующих сторон, каждая из которых обладала склонностью к пылкому и язвительному красноречию.
Когда вдруг получаешь известие, что твой близкий друг умер, то прежде всего вспоминаешь последний разговор. Наш с Антоном последний долгий разговор в данном земном перерождении состоялся в ресторане «Дом 12», где мы встретились случайно, незапланированно, и оба мы отнюдь не были трезвыми в тот момент. Мы обрадовались друг другу и продолжили выпивать уже вместе, и это длилось достаточно долго: мы успели в тот вечер поговорить о многих вещах и, в частности, несколько раз всплывала тема развода наших родителей: его и моих. На первый взгляд Антон был таким, как всегда: шутливым, остроумным, вальяжным. Но затем мне стало ясно, что он потрясен, ошарашен. Он был потрясен и ошарашен смертью своего отца, которая произошла за несколько месяцев до нашей встречи в «Доме 12». Я тоже тогда был потрясен и ошарашен – по другим причинам. Так мы и сидели с Антоном, болтая, – внешне шутливые и вальяжные, а на самом деле потрясенные и ошарашенные.
Одно из наших первых с Антоном совместных дел (а таких дел у нас было множество) заключалось в строительстве огромного картонного замка в мастерской Кабакова: мы исступленно клеили этот замок, множились его башни и стены, он обрастал мостами, крошечные воины щетинились пиками на его стенах – короче, замок расползался по мастерской, как плесень. До какого-то момента Илья («дядя Илья», как мы его называли) смотрел на эту деятельность сквозь пальцы, но затем его это задолбало и он сжег наш замок в камине. Нельзя сказать, что это нас особо травмировало, – мы были сумасшедшими детьми, постоянно готовыми по уши погрузиться в какую-нибудь новую игру.
В семьдесят пятом году мы все поселились в одном доме. Этот дом на Речном вокзале был «домом, который построил Джек», только это был никакой не Джек, а Гриша Перкель, художник, друг наших родителей, чрезвычайно общительный и предприимчивый человек, который решил поселить всех своих друзей в одном многоквартирном доме. Как ему это удалось – непостижимо. Но всё вышло именно так, как задумал Гриша. Каким-то образом создался кооператив при Союзе художников, и Гриша этот кооператив возглавил. И кооператив выстроил дом.