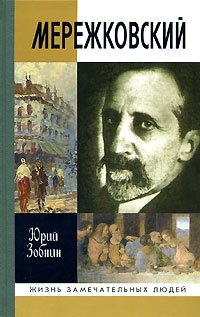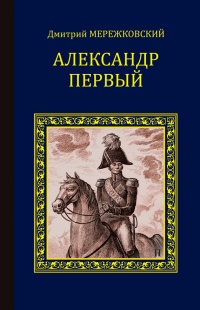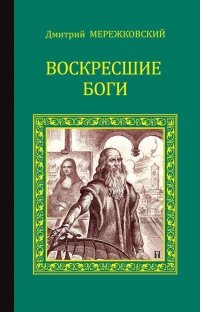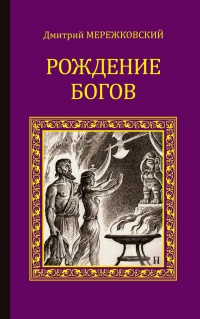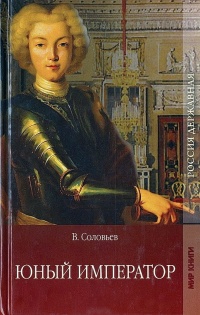Письмо не огорчило и не испугало царевича. На него нашло то бесчувственное и бессмысленное оцепенение, которое в последнее время все чаще находило на него. В таком состоянии он говорил и делал все, как во сне, сам не зная, что скажет и сделает в следующую минуту. Страшная легкость и пустота были в сердце – не то отчаянная трусость, не то отчаянная дерзость.
Он поехал в Петербург, остановился в доме своем у церкви Всех Скорбящих и велел камердинеру Ивану Афанасьеву Большому «убрать, что надобно в путь против прежнего, как в немецких краях с ним было».
– К батюшке изволишь ехать?
– Еду, Бог знает, к нему или в сторону, – проговорил Алексей вяло.
– Государь царевич, куда в сторону? – испугался или притворился Афанасьич испуганным.
– Хочу посмотреть Венецию… – усмехнулся было царевич, но тотчас прибавил уныло и тихо, как будто про себя: – Я не ради чего иного, только бы мне себя спасти… Однако ж ты молчи. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин.
– Я тайну твою хранить готов, – ответил старик со своею обычной угрюмостью, под которою, однако, светилась теперь в глазах его бесконечная преданность. – Только нам беда будет, когда ты уедешь. Осмотрись, что делаешь…
– Я от батюшки не чаял к себе присылки быть, – продолжал царевич все так же сонно и вяло. – И в уме моем того не было. А теперь вижу, что мне путь правит Бог. А се, и сон я ныне видел, будто церкви строю, а то значит – путь достроить…
И зевнул.
– Многие, ваша братья, – заметил Афанасьич, – спасалися бегством. Однако в России того не бывало, и никто не запомнит…
Прямо из дому царевич поехал к Меншикову и сообщил ему, что едет к отцу. Князь говорил с ним ласково. Под конец спросил:
– А где же ты Афросинью оставишь?
– Возьму до Риги, а потом отпущу в Питербурх, – ответил царевич наугад, почти не думая о том, что говорит; он потом сам удивился этой безотчетной хитрости.
– Зачем отпускать? – молвил князь, заглянув ему прямо в глаза. – Лучше возьми с собою…
Если бы царевич был внимательнее, он удивился бы: не мог не знать Меншиков, что сыну, который желал «исправить себя к наследству», нельзя было явиться к батюшке в лагерь «для обучения воинских действ» с непотребною девкою Афроською. Что же значили эти слова? Когда впоследствии узнал о них Кикин, то внушил царевичу благодарить князя письмом за совет; «может-де быть, что отец найдет письмо твое у князя и будет иметь о нем суспект[42], в твоем побеге».
На прощание Меншиков велел ему зайти в Сенат, чтобы получить паспорт и деньги на дорогу.
В Сенате все старались наперерыв услужить царевичу, как будто желали тайно выразить сочувствие, в котором нельзя было признаться. Меншиков дал ему на дорогу 1000 червонных. Господа Сенат назначили от себя другую тысячу и тут же устроили заем пяти тысяч золотом и двух мелкими деньгами у обер-комиссара в Риге. Никто не спрашивал, все точно сговорились молчать о том, на что царевичу может понадобиться такая куча денег.
После заседания князь Василий Долгорукий отвел его в сторону.
– Едешь к батюшке?
– А как же быть, князь?
Долгорукий осторожно оглянулся, приблизил свои толстые, мягкие, старушечьи губы к самому уху Алексея и шепнул:
– Как? А вот как: взявши шлык да в подворотню шмыг, поминай как звали – был не был, а и след простыл, по пусту месту хоть обухом бей!..
И помолчав, прибавил, все так же на ухо шепотом:
– Кабы не государев жестокий нрав да не царица, я бы в Штетин первый изменил, лытка бы задал!
Он пожал руку царевичу, и слезы навернулись на хитрых и добрых глазах старика.
– Ежели в чем могу впредь служить, то рад хотя бы и живот за тебя положить…
– Пожалуй, не оставь, князенька! – проговорил Алексей, без всякого чувства и мысли, только по старой привычке.
Вечером он узнал, что вернейший из царских слуг, князь Яков Долгорукий посылал ему сказать стороной, чтоб он к отцу не ездил: «худо-де ему там готовится».
На следующее утро, 26 сентября 1716 года, царевич выехал из Петербурга в почтовой карете, с Афросиньей и братом ее, бывшим крепостным человеком, Иваном Федоровым.
Он так и не решил, куда едет. Из Риги, однако, взял с собою Афросинью дальше, сказав, что «велено ему ехать тайно в Вену, для делания алианцу против Турка, и чтобы там жить тайно, дабы не сведал Турок».
В Либаве встретил его Кикин, возвращавшийся из Вены.
– Нашел ты мне место какое? – спросил его царевич.
– Нашел: поезжай к цесарю, там не выдадут. Сам цесарь сказал вице-канцлеру Шенборну, что примет тебя, как сына.
Царевич спросил:
– Когда ко мне будут присланные в Данциг от батюшки, что делать?
– Уйди ночью, – ответил Кикин, – или возьми детину одного; а багаж и людей брось. А ежели два присланы будут, то притвори себе болезнь, и из тех одного пошли наперед, а от другого уйди.
Заметив его нерешительность, Кикин сказал:
– Попомни, царевич: отец не пострижет тебя ныне, хотя б ты и хотел. Ему друзья твои, сенаторы, приговорили, чтоб тебя ему при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже-де труда не понесешь. И отец сказал: хорошо-де так. И рассуждал ему князь Меншиков, что в чернечестве тебе покой будет и можешь долго жить. И по сему слову, я дивлюсь, что давно тебя не взяли. А может быть, и то сделают: как будешь в Дацкой земле, и отец, под протекстом обучения, посадя на один воинский свой корабль, даст указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтобы тебя убить, о чем из Копенгагена есть ведомость. Для того тебя ныне и зовут, и, кроме побегу, тебе спастись ничем нельзя. А самому лезть в петлю – сие было бы глупее всякого скота! – заключил Кикин и посмотрел на царевича пристально:
– Да что ты такой сонный, ваше высочество, словно не в себе? Аль не можется?
– Устал я очень, – ответил царевич просто.
Когда они уже простились и разошлись, Кикин вдруг вернулся, догнал его, остановил и, глядя ему прямо в глаза, проговорил медленно, упирая на каждое слово – и такая уверенность была в этих словах, что у царевича, несмотря на все его равнодушие, мороз пробежал по телу:
– Буде отец к тебе пришлет кого тебя уговаривать, чтоб ты вернулся, и простить обещает, то не езди: он тебе голову отсечет публично.
При отъезде из Либавы Алексей точно так же ничего не решил, как при отъезде из Петербурга. Он, впрочем, надеялся, что и решать не придется, потому что в Данциге ждут посланные от батюшки. С Данцига дорога разделялась на две: одна на Копенгаген, другая через Бреславль на Вену. Посланных не оказалось. Нельзя было медлить решением. Когда хозяин вирцгауза[43], где царевич остановился на ночь, пришел вечером спросить, куда ему угодно заказать лошадей на завтра, он посмотрел на него с минуту рассеянно, как будто думал о другом, потом произнес, почти не сознавая, что говорит: