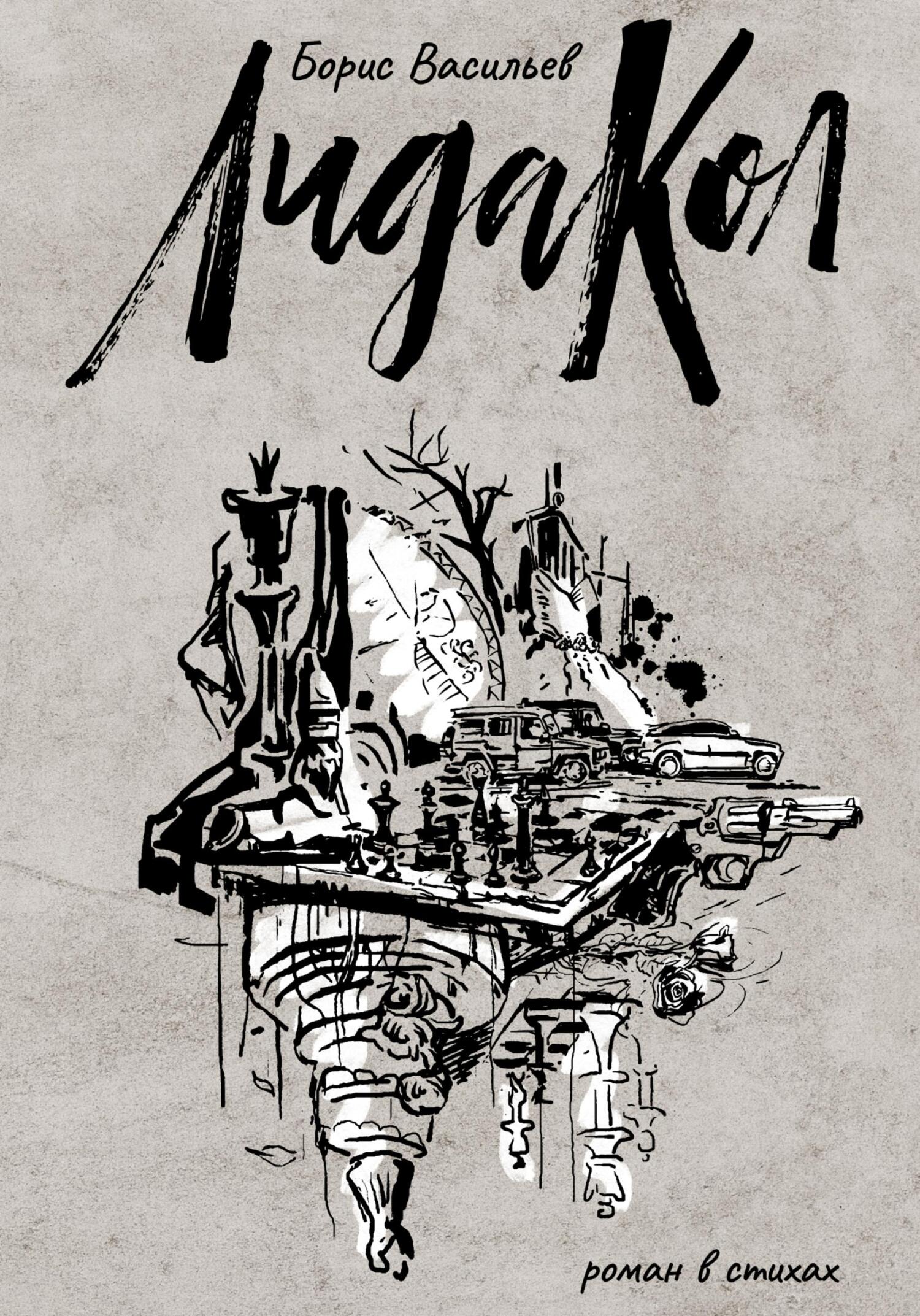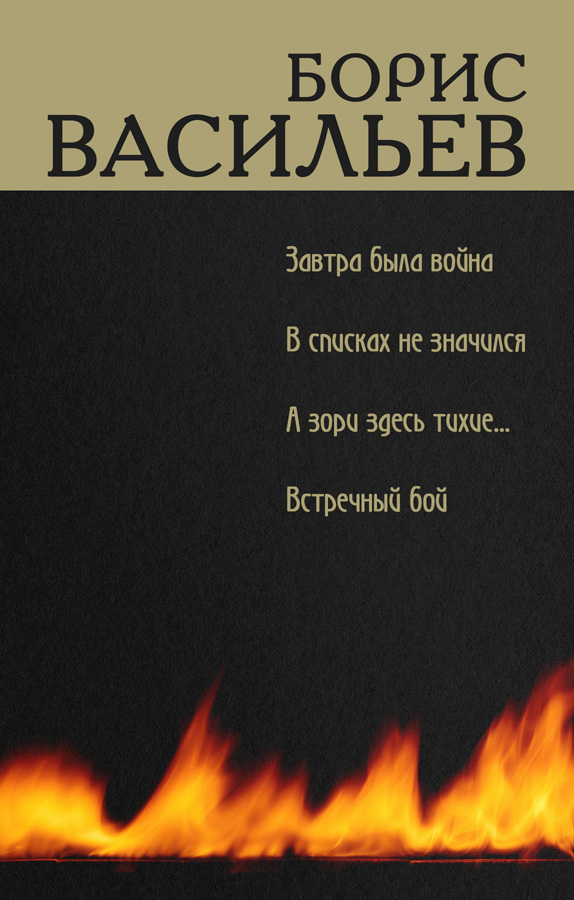Свеча восьмая
Вторично дверь моего Петропавловского каземата распахнулась в сырых петербургских сумерках. В столицу шла весна, из прорубленного в Европу окна уже стремился теплый ветер, и день заметно прибавился, что сказалось даже в сумрачной темнице моей.
Но меня куда-то везли в то время, когда служба во всех присутствиях закончилась, чтобы через время некое переместиться в храмы Божии. Семья моя, свято соблюдая православные обряды, особой религиозностью никогда не отличалась, поскольку предки мои, насколько мне было известно, добывали хлеб насущный не серпом да цепом, а мечом да шпагой. Такой способ деятельности во благо Отечества необходим и достоин, однако по самой сути своей он как-то не совсем, что ли, совмещается с постулатами Нагорной проповеди. И «не убий» для воина — завет относительный, и «не укради», и «не возжелай», и многое другое: а la guerre comme а la guerre[37]. А потому я, грешный, о Пасхе узнавал тогда лишь, когда в нашем доме начинало пахнуть куличами. И в тот вечер подумал вдруг: уж не в церковь ли меня везут ко всенощной?..
Однако здание, подле которого меня из арестантской кареты высадили, на храм Божий мало походило. Менее, скажем, нежели армейская шинель на поповскую рясу. Да и сам подъезд с застывшими часовыми тоже.
Поднялись на второй этаж по пустынной лестнице, прошли в залу с двумя настенными зеркалами в бронзовых рамах и изящной, совсем уж не казенного вида мебелью. Мой сопровождающий, велев обождать, исчез за тяжелой, бронзой отделанной дверью, и я замер подле одного из зеркал. Потому замер, что в зале этой парадно-приемного вида оказалось целых два генерала и никак не менее дюжины штаб-офицеров, не обращавших, впрочем, на меня, жеванного казематами арестанта, ровно никакого внимания.
Из-за той двери, за которой скрылся мой крепостной офицерик, вышел молодой жандармский капитан и остановился перед зеркалом в шаге от меня.
«Франт, — подумал я нелюбезно. — Ишь охорашивается, крыса жандармская…»
— Обращение — ваше высокопревосходительство, — вдруг шепотом, но вполне явственно сказал этот франт, по-прежнему глядясь в зеркало. — Почаще, он это любит. Не задерживайся с ответами — подозрителен. И не вздумай изворачиваться, он многое знает. Лучше умолчи. Так безопаснее.
И пошел себе к выходу, на меня так ни разу и не взглянув.
Но сказано-то было для меня! В этом не могло быть никаких сомнений, и сердце мое прямо-таки теплой волной обдало: «Живо! Живо ты еще, братство офицерское, живо!..»
И вспомнил тут я, что при формировании голубого Жандармского корпуса многих армейских офицеров переводили в него помимо их желания. Повелением простым переводили. Те, кто мог, сразу же в отставку подавали, ну, а те, кого одна лишь служба кормила, у кого родовое поместье — с гулькин нос или сестер незамужних куча, тем некуда было деваться. И напялили они голубые мундиры на верные армейские сердца…
Неожиданно дверь распахнулась. Мой надзирающий офицерик выглянул:
— Проходите.
Я мятый свой мундиришко одернул, шагнул за порог и очутился в огромном кабинете. Освещен был лишь стол да круг подле него: два кресла, что ли. Стены в сумрак уплывали, но фигура в генеральском мундире, восседавшая за столом, выделялась от этого еще отчетливее. И я рванул к ней с места строевым шагом.
— Поручик Олексин, ваше высокопревосходительство! Честь имею явиться!
Генерал, глаз от бумаг не оторвав и на меня не глянув, бросил отрывисто, по-сановному:
— Садитесь.
Я поспешно сел, замерев на краешке кресла. Бумаги листались неторопливо и вдумчиво. Совершенно беззвучно при этом, будто сами собою перепархивали.
— Когда, каким образом и где именно познакомились с Александром Пушкиным?
— В Кишиневе, ваше высокопревосходительство. Был сослан туда за дуэль.
— За дуэль? — Генерал впервые поднял на меня бледные, безмерно усталые глаза. — Какая по счету?
— Первая, ваше высокопревосходительство.
— И чем же она закончилась?
— Прострелил ногу гвардии поручику Турищеву, ваше высокопревосходительство!
— А он пальнул в воздух, — с укором сказал генерал. — Неблагородно поступили, Олексин.
— Иначе поступить не мог, ваше высокопревосходительство. Турищев оскорбил даму.
— Даму? Это меняет оценку.
Генерал оставил бумаги. Откинулся к спинке кресла, и лицо его ушло в тень.
— Затем прибыли в Кишинев. Кто представил вас Пушкину?
— Никто, ваше высокопревосходительство. Занимались фехтованием у одного местного мастера. В конце концов я счел возможным лично представиться Александру Сергеевичу под тем предлогом, что мы с ним — земляки.
— После чего вы затеяли новую дуэль.
— Так точно, ваше высокопревосходительство, о чем весьма сожалею.
— И с кем же на сей раз?
— С Руфином Ивановичем Дороховым. Исключительно вследствие собственной невоздержанности.
— И кто же был вашим секундантом?
— Майор Раевский, ваше…
— Майор Владимир Раевский, — почему-то с некоторым удовлетворением отметил генерал.
— Так точно, ваше высокопревосходительство!
Я уже сообразил, что меня допрашивает сам шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф. Но пугало меня не это. Я очень встревожился, что он спросит, кто именно меня познакомил с Раевским, и я вынужден буду назвать Пушкина. Однако генерал сказал совсем иное. И — весьма неожиданное:
— Дуэль на шпагах — скорее спорт, как говорят англичане. Ковырнули друг друга и разошлись. Так оно и было?
— Так точно, ваше высокопревосходительство! — с огромным облегчением согласился я.
— Ну и Бог с вами. А по какому поводу вы устроили попойку за неделю до бряцания шпагами?
— Осьмнадцать лет мне исполнилось, ваше высокопревосходительство.
— И кого же вы в сей знаменательный день пригласили?
— Троих, ваше высокопревосходительство. Господина Александра Пушкина,