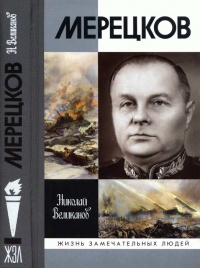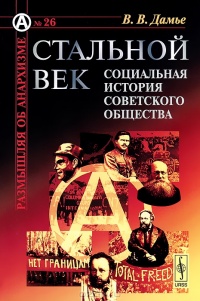НА БЕДРЕ БЕЛОГО ВЕЛИКАНА Там, где плачет птица кроншнéп в горле сомкнутых рек И холмы под луной обсыпает сверкающий мел, Ты идешь по бедру великана, ты ищешь ночлег Среди женских, бесплодных как камни, мертвенных тел. Год за годом, подобно мольбе безымянных калек, Их раскрытые чресла бредят живою водой; И зияют умытой дождями, ночной пустотой, Только крик их младенцев опять отложен на век. Разгребая песок пятернями огромных когтей, Девы плачут, как птица кроншнéп в горле сомкнутых рек, Словно видят сквозь скользкие травы опущенных век Мелководные проблески рыб, игры малых детей. Помнишь, кто-то любил зябкий шорох гусиной зимы, Обходил по застывшим дорожкам глухие дворы, Поднимался в горбатых телегах к вершине горы, Рассыпая с нее клочья сена из рваной сумы. Кто-то вел хороводы под куполами светил, Чтоб сейчас пастухи и пастушки, теряясь во мгле, Берегли его бедную душу в ячменном тепле И стога на полянах хранили нетленность могил. Этот прах был когда-то целебною плотью корней У садовника грубого, будто коровий язык, В отсырелом хлеву, где плескался ужасный родник Ежевичной, хмелеющей жижи на мордах свиней. И под солнцем, пронзающим кость золотою иглой, И под бледным, играющим шелком холодной луны Ты мечтал, уповая на милость озерной волны, Что прибрежные мертвые камни не станут золой. Твои жены качались, как клевер пчелиной молвы, На полях, уходящих в предсмертную дверь сентября, И монахи, с крысиной ухмылкой лесного царя, Всё визжали, покуда крутое знамéнье совы Не очертит им грудь. Этот праздник действительно цвел Пышным цветом. И в полдень оленьи стада Шли на поиск любви, и трубили ночной произвол, Чтоб разжечь фейерверки лисиц, любопытство крота. Чтоб гусыни, стеная на сетках кроватных пружин, Взбили сладкие сливки в своей необъятной груди. Чтобы ты навсегда и навеки остался один И оставил стук их башмаков далеко позади. Чтобы плакала птица кроншнéп в горле сомкнутых рек. (Ведь никто не родился, никто не оставил свой след, Никакой заболевший ветрянкой родной человек, Доброй Мамой Гусыней завернутый в клетчатый плед.) Кто ж теперь поцелует губами клубящийся прах, Если в прахе качается маятник старых часов, Клочья сена гуляют вприсядку и в ржавых замках Не осталось кухо́нных рецептов былых голосов? Если каждую розу дотла иссушил менестрель, Но велел прославлять, словно розу, ржаной каравай. И церковные гимны звучат как пастушья свирель, Вызывая когда-то умерших в пастушеский край. Научи меня детской любви под соленым дождем, После смерти любимой, ушедшей в последнюю ночь, Если имя на траурном камне прочитано днем, Его ночью не слышит счастливая царская дочь. Лишь по этой царевне рыдают могилы холма. Лишь по ней плачет птица кроншнéп в горле сомкнутых рек. И пожары соломенных чучел, сошедших с ума, Полыхают из старого века — в невиданный век.
На это дело у меня ушло часов пять. На улице светало. Бар закрывался. Я считал, что написал лучшее стихотворение всех времен и народов. Сочинял я его в нотной тетради, писал от руки — пижонская привычка, возникшая еще в Екатеринбурге. Завсегдатаи посматривали на меня с интересом. Когда я поднялся с фанерного дивана у окна — с интересом посмотрел на себя в зеркало сам.