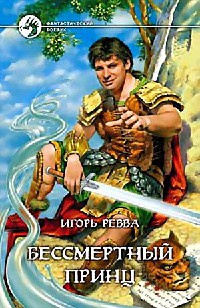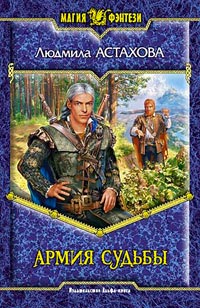Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 78
Это еще не секрет. Это я видела каждый день. Секрет же видела только раз. После яблока, когда они наконец оставляли ее одну, Марья спускалась в подвал. Мой Папа тоже отощал, но, конечно, он один из всех нас не мог умереть от голода. Он глядел на нее, и, о, если бы дом хоть раз на меня так посмотрел, даже привязанный к стене, словно птичья тушка, я бы после этого до конца моих дней не заговорила бы с человеком. Марья начинала шмыгать носом и трястись, лицо ее рассыпалось на части. Плечи никли, как когда она была маленькой, а мать не скупилась на наказания. Она плакала, но не глазами, а голодными костями.
Папа Кощей закрывал глаза. На шее его открывалась рана, как след от поцелуя. Краснее красной. Без всякого ножа, не подумайте. Из раны начинала капать кровь, и там, в подвале, где я пряталась под лестницей, Марья Моревна припадала ртом к Кощею и сосала, как младенец, размазывая кровь по всему лицу. Она продолжала сосать, не переставая содрогаться от сухих рыданий.
* * *
Наконец хлеба в хлебе не осталось совсем, и масло стало не масло, потому что хлеб пекли целиком из хлопковых семян, бумаги и пыли, а масло делали из клея для обоев, и это все еще выдавали по карточкам, по горстке. Пыльные пирожки, пыльные пирожные, пыльный хлеб, который даже не поднимался. Ни у кого уже не было что жечь, потому что, если это можно жечь, значит, это можно есть, а мертвому от огня пользы никакой. Так что никаких угольков для бедной домовой, и дом тоже серьезно болел. И я все еще думала – ша! Звонок может это пережить.
Я расскажу вам, как мы делали суп в эти дни. Подержать продуктовые карточки над кипящей водой тридцать минут – так, чтобы тень карточек падала на бульон. Потом съесть его, и боже упаси уронить хоть каплю.
Однажды Иван Николаевич пришел домой в своем кожаном пальто. Кожаное пальто означало, что он занимался арестами. Он подошел к кровати и обнаружил на ней Марью Моревну. Они оба были как сухие палки от старого дерева. Он обнял ее руками, и их кости стукнулись друг о друга. Он гладил ее по голове, как кошку. Длинные пряди вылезали под его руками. Иван не говорил Марье, что стряслось, но я-то знала, потому что могла приложить ухо к крыше и услышать, что другие дома говорят: На Сенном рынке есть мясо, и его можно купить. Жирная старуха продает. На ней кожаный фартук и черная шуба, а колеса у ее тележки странные, как птичьи когти. У нее есть котлеты, много – десятки. За жемчуга она их продает, за часы, за рубли, за ботинки. Где она все это взяла? Только дурак такое спросит про хорошее мясо.
– Пришли мне немного с мальчишкой, – сказала я знакомому домовому с проспекта Маклина.
Не надо тебе этого мяса, ответил он мне.
Я возразила, Софье надо поесть мяса сейчас, или она умрет, а этот дом не может вынести даже одну смерть, или они все начнут умирать.
Так что прибыл мальчик с двумя котлетами, за которые я отдала бриллиантовое ожерелье, которое стащила у Светланы Тихоновны много лет назад. Мальчишке оно нисколько не нравилось, но он взял украшение и оставил мясо. Ксения Ефремовна потрясла головой.
Я знаю, что это.
– Я тоже знаю, но ты же не человек, какая тебе разница?
Со здравым смыслом не поспоришь. Она попробовала пожарить мясо на сковородке, и весь дом пропах им. Софья съела все до крошки и вознаградила нас тихим смехом. Честный обмен, подумали мы обе, а мне от всего этого достался еще и уголек. Это был тот самый вечер, когда Иван Николаевич пришел в кожаном пальто.
Что я могла сделать? Пришла беда – отворяй ворота.
* * *
Когда Софья умерла, Ксения Ефремовна и Марья Моревна завернули ее в простыню и положили на желтые саночки. Они вытащили ее на дорогу, и каждая оставила свое сердце на пороге. Вокруг все тоже тащились с саночками. Саночек было больше, чем снега. Вот жена тащила на кладбище мужа, замерзшего, как труба, да и умерла, пока тащила; ни один из них не смог добраться, куда собирался, но вместе-таки добрались.
Запаха не было из-за льда, но всюду, где останавливались саночки, вырастал сугроб, будто копна. Я сидела у Софьи на животе, когда они ее тащили. Дом – это семья. И они тоже моя последняя семья.
Никто не разговаривал. Они дышали через шарфы и волочили, волочили. Но хоронить уже было некому, поэтому люди оставляли свои саночки у ворот кладбища. Там мы и оставили Софью – с Ксенией, лежащей поверх нее, как цветок, и снег падал ей на волосы. Я прочитала молитву домовых, но никто меня не слышал, потому что печаль громче молитвы.
Той ночью у окна Марья Моревна сказала мне: Я думаю, что наконец нашла свой дом, потому что все, кого я люблю, – здесь.
Захлопни рот, последние мозги растеряешь.
Кощей подо мной, а Иван надо мной. А там, в снегу, все стало серебряным, и там Мадам Лебедева варит кисель из губной помады, и Землеед присматривает за липами, и Наганя на замерзшей реке подливает керосину в рот, чтобы курок не замерз. И ты, и Ксения Ефремовна, и маленькая Софья. Наконец мы все вместе.
Я посмотрела в окно, куда она смотрела месяц за месяцем без перерыва. И там, в темноте, засветились серебряные раны на улицах, через которые проступал другой Ленинград, другая Нева, другая улица Дзержинского, все заляпанные серебром. И шла там женщина с лебедиными перьями в волосах, исчезая за углом, и шел там жирный коротышка с мертвыми листьями на голове, и брела женщина, похожая на ружье. И Ксения там тоже брела, вся грудь в пятнах и мерцает серебром, и держит она младенца Софью за руку, а ребенок прыгает и хочет поймать серебряные шарики, которые улетают и в руки ей не даются.
Мамочка, кричит она. Посмотри, сколько их!
А между ними идет кто-то вроде комиссара, с веками такими длинными, что они метут снег на его пути, и одет он в серебряную парчу и серебряную корону. И пока мы на них смотрели, Царь Смерти поднял свои веки руками, как поднимают юбки, и пустился в пляс по улицам Ленинграда.
* * *
Лопатки у Марьи Моревны сошлись на спине, а колени Ивана Николаевича стучали друг о друга, притянутые к животу. В доме выросли сосульки. Они вместе сдирали со стен обои, чтобы добраться до застывшего клея, а потом варили обои, чтобы сделать хлеб. От обоих остались только рты да кости, а глаза их заклинивало всякий раз, когда они пытались посмотреть друг на друга. Они ели свой хлеб с турецкими огурцами и цветами на корочке и намазывали клей на него, как масло. Хлеб уже никогда не был хлебом, а масло никогда не было маслом. Они даже не помнили, что это такое.
– Немцы разослали приглашения на бал в гостинице «Астория», – прошептал Иван Николаевич, будто кто-то еще, кроме меня, мог его слышать. – Они будут подавать там целиком зажаренных свиней, и сто тысяч картошек, и торт весом сто килограммов. Я сам видел это приглашение, тисненное золотыми буквами, с красной лентой. Они говорят: «Ленинград пуст. Мы только ждем, когда вороны немножко подберут все перед праздником».
Я не верю тебе, сказала Марья. Она так упряма, что ее сердце готово спорить с головой каждым своим стуком. Я знаю. Я же ее растила, кто еще?
Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 78