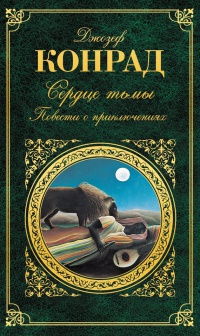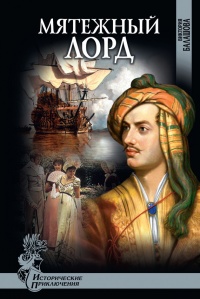Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
Большинство моих собеседников придерживалось того мнения, что камень, должно быть, приносит несчастье, – подобно знаменитому камню султана Суккаданы, навлекшему в древности войны и неслыханные бедствия на страну. Быть может, это был тот самый камень, но в точности никто не знал. В действительности же история о баснословно большом изумруде начала распространяться с того времени, как появились на архипелаге первые белые люди; и вера в него так упорна, что не дальше как сорок лет назад голландцы производили официальное расследование.
Один старик сообщил мне детали удивительного мифа о Джиме. Он занимал должность писца при жалком маленьком радже.
– Такая драгоценность, – сказал он, поднимая на меня свои подслеповатые глазки (из почтения ко мне он сидел на полу каюты), – лучше всего сохраняется, если ее носит на себе женщина. Но не всякая женщина для этого пригодна. Она должна быть молода, – тут он глубоко вздохнул, – и нечувствительна к соблазнам любви.
Он скептически покачал головой. И, однако, такая женщина, кажется, действительно существует. Ему говорили о высокой девушке, к которой белый человек относится с великим почтением и заботливостью. Она никогда не выходит одна из дома. Рассказывают, что белый человек проводит с ней почти целый день. Они открыто прогуливаются вместе, он просовывает ее руку под свою и прижимает к себе – вот так, самым необычным образом. Он допускал, что это враки, ибо такое поведение действительно очень странно; но, с другой стороны, нет никаких сомнений в том, что на ее груди спрятан драгоценный камень белого человека.
Глава XXIX
Таково было объяснение вечерних супружеских прогулок. Я часто принимал в них участие, всякий раз с неудовольствием вспоминая Корнелиуса, который считал себя оскорбленным в своем законном отцовстве и сновал поблизости, кривя рот, словно готов был заскрежетать зубами. Но замечаете ли вы, как на расстоянии трехсот миль от телеграфных проводов и морских почтовых путей вянет и умирает суровая утилитарная ложь нашей цивилизации, сменяясь чистым проявлением фантазии, которая отличается бесполезностью, очарованием и иногда глубоко скрытой истиной произведений искусства? Романтизм наметил Джима своей добычей – вот единственно правдивый штрих истории, которая во всех остальных отношениях является выдумкой. Он не скрывал своей драгоценности. В действительности он чрезвычайно ею гордился.
Теперь я понимаю, что в общем очень мало ее видел. Лучше всего помню я ровную оливковую бледность ее лица и иссиня-черный блеск волос, пышно выбивавшихся из-под маленькой малиновой шапочки, которую она носила на затылке. Голова у нее была безукоризненной формы, движения свободны и уверенны; краснея, она заливалась густым румянцем. Когда Джим и я разговаривали, она приходила и уходила, бросая на нас быстрые взгляды, – грациозная, чарующая, настороженная. В ней любопытно сочетались робость и отвага. Прелестная улыбка быстро сменялась выражением молчаливого, сдержанного беспокойства, словно она обращалась в бегство при воспоминании о какой-то постоянной опасности. Иногда она присаживалась к нам, подпирала маленькой рукой мягкую щеку и слушала нашу беседу; ее большие светлые глаза впивались в наши губы, словно каждое произнесенное слово было облечено в видимую форму. Мать научила ее читать и писать; у Джима она выучилась английскому языку и говорила очень забавно, переняв его мальчишеские интонации и проглатывая концы слов.
Ее нежность трепетала над ним, словно крылья птицы. Она так всецело жила созерцанием его, что внешне стала на него походить, чем-то напоминала его своими движениями, манерой протягивать руку, поворачивать голову, бросать взгляды. Ее настороженная привязанность была так интенсивна, что казалась почти осязаемой; словно действительно пребывая в окружающем пространстве, привязанность эта окутывала его, словно аромат, пронизывала солнечный свет трепетной, приглушенной и страстной мелодией.
Должно быть, вы думаете, что и я также романтик, но это неверно. Я трезво передаю вам то впечатление, какое произвели на меня юность и странный тревожный роман, который довелось мне увидеть на моем пути. Я с интересом следил за его… ну, скажем, за его счастьем. Он был любим ревниво, но почему она ревновала и чем была вызвана эта ревность, я не могу сказать. Страна, народ, леса были ее сообщниками, сторожа его бдительно и согласно, и в этом была тайна и непобедимая сила. Не к кому было обращаться за помощью; самая свобода его власти держала его в плену. А она хотя и готова была положить к его ногам свою голову, но неумолимо стерегла свое завоевание, словно эту добычу трудно было удержать.
Даже Тамб Итам, следовавший с опущенной головой по пятам за своим господином, свирепый и, словно янычар, вооруженный крисом, топором и копьем, не говоря уже о ружье Джима, – даже Тамб Итам напускал на себя вид неумолимого стража, точно угрюмый преданный тюремщик, готовый отдать жизнь за своего пленника. Когда мы поздно засиживались по вечерам, его молчаливая неясная фигура, неслышно шагая, ходила под верандой, или, подняв голову, я неожиданно замечал его, неподвижно стоящего в тени. Как правило, он вскоре исчезал бесшумно, но, когда мы вставали, появлялся снова, словно выскакивал из-под земли, готовый выслушать приказания Джима.
Девушка, кажется, также никогда не ложилась спать раньше, чем мы расходились на ночь. Не раз видел я из окна своей комнаты, как она и Джим тихонько выходили на веранду и стояли, облокотившись на грубую балюстраду, – две белые фигуры, стоящие бок о бок; его рука обвивала ее талию, ее голова покоилась на его плече. Их легкий шепот доносился до меня, вкрадчивый, нежный, спокойно-грустный в тишине ночи, словно один человек беседовал сам с собой в два голоса.
Позже, ворочаясь на своей постели под сеткой от москитов, я слышал легкий скрип, тихое дыхание, кто-то осторожно откашливался, и я догадывался, что Тамб Итам все еще бодрствует. Хотя он имел дом, «взял себе жену» и не так давно стал отцом, но, кажется, каждую ночь он спал на веранде, – во всяком случае, во время моего визита. Очень трудно было заставить этого верного и угрюмого слугу говорить. Даже Джим мог от него добиться лишь отрывистых, коротких фраз. Казалось, он вам внушал, что разговор – не его дело. Самую длинную фразу, какую он произнес добровольно, я услыхал от него однажды утром, когда, вытянув руку, он указал на Корнелиуса и произнес:
– Вот идет назарянин[19].
Не думаю, чтобы он обращался ко мне, хотя я стоял подле него; его целью, казалось, было привлечь негодующее внимание вселенной. За этим последовало замечание о собаках, что я счел удивительно уместным.
Двор – большой четырехугольник – был раскален палящими лучами солнца, и, купаясь в напряженном свете, Корнелиус пробирался через открытое пространство с таким видом, будто тайком подкрадывался. В нем было что-то противное. Его медленная походка напоминала движения отвратительного жука, у которого с трудом передвигаются одни ноги, а тело скользит, словно застывшее. Полагаю, он направлялся прямо к тому месту, куда хотел попасть, но одно его плечо было выставлено вперед, и казалось, что он пробирается бочком. Я часто видел, как он медленно ходил вокруг сараев, словно шел по чьему-то следу, или шмыгал перед верандой, украдкой поглядывая наверх, и не спеша скрывался за углом какой-нибудь хижины.
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113