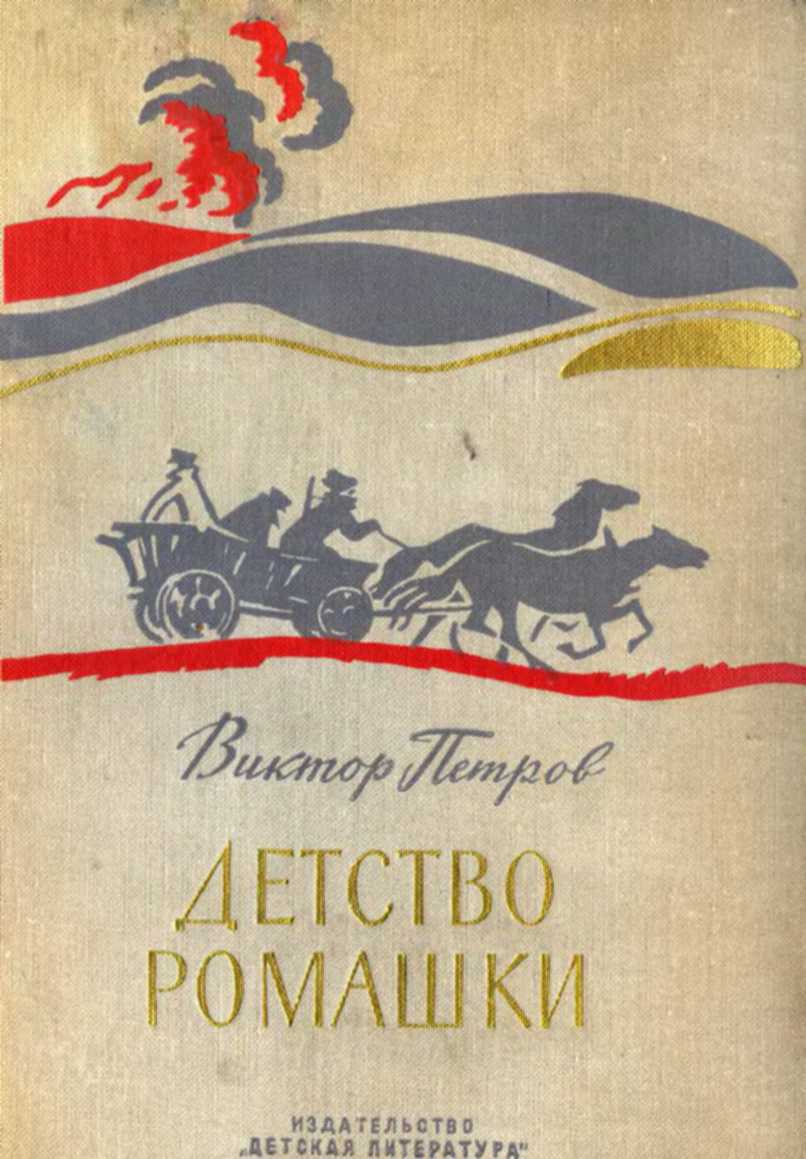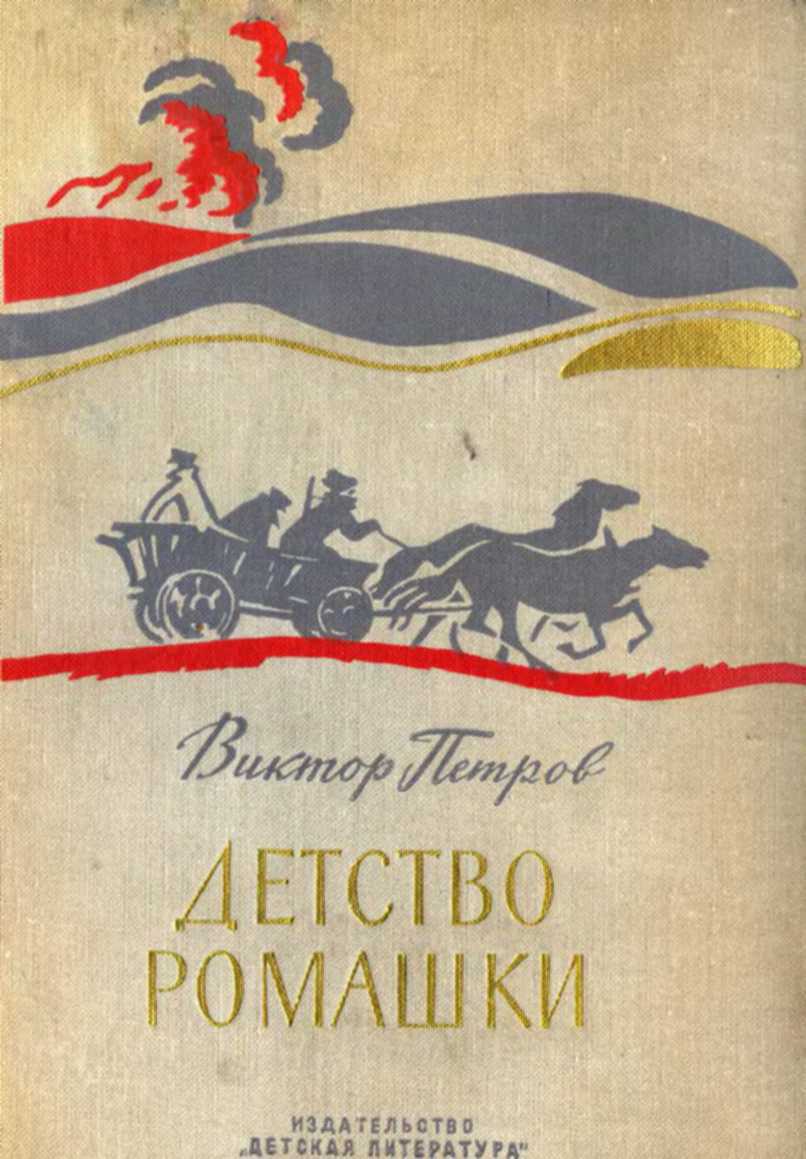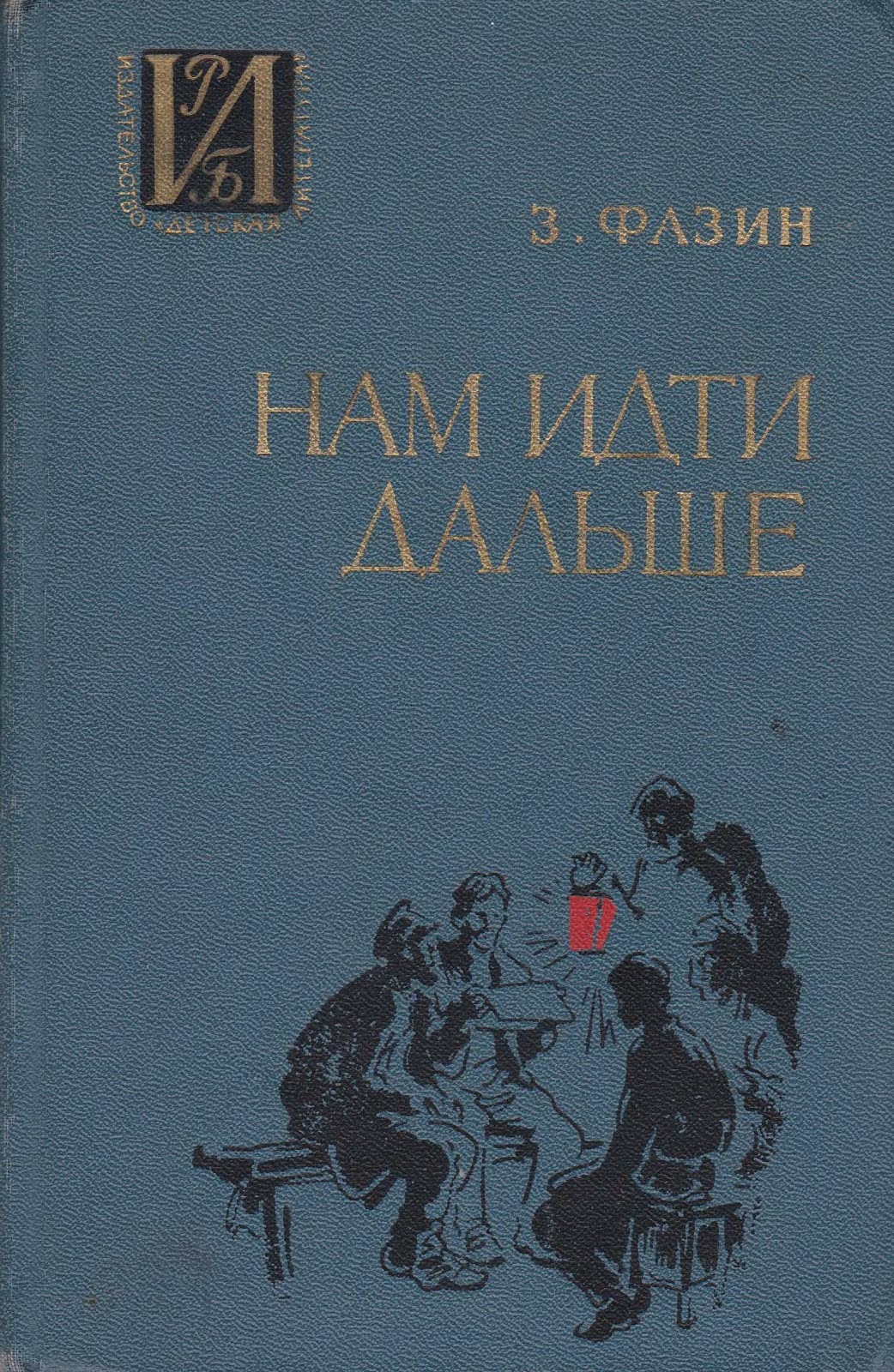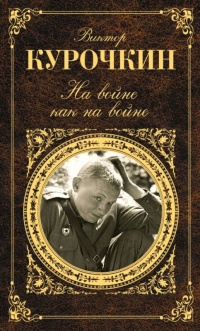надежды на благополучный исход. Поэтому она оправдывала гнев мужа, хотя раньше боялась осудить дочь, все время колебалась, принимая за истину даже то, что злочевская сплетня сразу же принесла в их дом. Буковская вспомнила, как она гордилась красотой дочери, ее успехами, умом, дипломами, которые Катажина приносила домой, пятерками в зачетных книжках. И самое главное, непоколебимую уверенность в том, что ее дочь найдет свое, созданное в мечтах матери, место в жизни.
Доктор Буковский задавал себе другие вопросы. Несмотря на волнение, он старался обдумать создавшееся положение спокойно, без гнева. Единственно, что ему мешало, — не ослабевающее ни на минуту мучительное сознание того, что, собственно говоря, ничего в данной ситуации от него не зависит. А ведь налицо вопиющая несправедливость, потому что каждому ясно, что это дело не только дочери. Никто другой, а именно он, доктор Ян Буковский, всю жизнь провел в этом городе, годами строил не только этот дом и семейное счастье, но то, что для врача является самым важным, — свое положение в обществе, авторитет и доверие. А теперь Катажина хочет все разрушить одним безрассудным шагом, выставить его на посмешище перед людьми.
«Есть только один выход, — думал доктор, — уговорить ее уехать. Я сделаю все, чтобы она вернулась в Н. Я ее отец, и кто должен ее защищать, даже перед ней самой, если не я?»
— Это правда, Кася? — спросил он напрямик неожиданно для самого себя. Его голос был спокоен, в нем звучала только нота отцовской заботы, ничего больше, никакого гнева и ожесточения.
Катажина тоже была захвачена врасплох его прямолинейностью. Она удивленно подняла глаза:
— О чем ты говоришь?
— Ты была в Ярославце с Горчиным?
Мать не отрывала взгляда от ее губ, как будто ответ действительно что-нибудь значил, как будто подтверждение этой неприятной правды могло принести им какое-то облегчение и утешение.
«Почему они ничего не понимают, почему им достаточно только повода для того, чтобы осудить или захлебнуться от одобрения. Если бы в один прекрасный день я сказала им, что выхожу замуж за какого-нибудь инженера, юриста, врача, особенно врача, они схватили бы меня в объятия, а в их глазах были бы слезы счастья. И уж, конечно, никто бы не спросил меня, люблю ли я его, счастлива ли я. А связь с таким человеком, как Михал, их ужасает, и в этом они видят только мое и свое несчастье. Господи, как им все объяснить?..»
— Да, была, — ответила она.
— Все-таки была, — Буковский опустил глаза на свои сжатые на белой скатерти пальцы, — и что ты намереваешься делать дальше?
— Не знаю, — пожала она плечами.
— Ты не считаешь, что стоит подумать о будущем? — Доктор невольно, несмотря на данное себе обещание, повысил голос.
— Я говорю искренне. — Катажина не чувствовала в себе сил бороться с ними, попытаться хотя бы что-то им объяснить. — Это единственный ответ, который я вам могу дать сейчас… Чтобы не фантазировать, не обманывать ни вас, ни себя.
— Мы не хотим тебя осуждать, дорогое дитя, — Буковский возвратился к прежней роли, — но обо всем ли ты подумала? О его семье, ребенке, о других людях, хотя бы о нас самих? Уверена ли ты, что правильно поступаешь?
— Нет, — в конце концов он заставил ее запротестовать, — у меня ни на грош нет уверенности. Я даже до конца не уверена в его чувствах… Знаю только, что вы меня не поймете.
— Ты нас тоже не хочешь понять, Кася, — сказала мать.
— Может быть, и не хочу.
— Ты говоришь, как обиженная девочка, а не взрослая женщина. — Доктор снова взял инициативу в свои руки. — Мы хотим только твоего счастья.
— А какое оно? — вспыхнула Катажина. — Может быть, у тебя есть рецепт на него?
Воцарилось долгое, тяжелое молчание. Однако никто не встал из-за стола. Они продолжали сидеть, избегая смотреть друг другу в глаза. Наконец мать поднялась первая.
— Принесу кофе, — сказала она тихо.
— Я получил письмо от профессора Долецкого. Он снова возвращается к своему предложению. Я ценю его дружбу и верю этому человеку. Поезжай, Кася, к нему. Тебе повезло, ведь сотни молодых врачей даже не могут мечтать о клинике, о таком опекуне… Не лети, как бабочка на огонь, подумай, проверь свои и его чувства. Своим решением ты ничего не зачеркиваешь, не сжигаешь за собой мосты… Когда ты училась, мы всегда с матерью думали, что ты вернешься и будешь с нами, но в данной ситуации лучше было бы… Ну, это была бы хоть какая-то попытка найти выход из сложившегося положения.
— Я не воспользуюсь твоим предложением, отец. Не потому, что не признаю протекции. Действительно, ведь иначе мне туда не попасть. А просто потому, что я хочу быть здесь, по доброй воле, хочу быть уверенной в том, что действительно нужно зарыться в такой дыре, как Злочев, жить здесь и лечить людей, работать в таких условиях, как тысячи моих коллег. Это, наверно, тоже чего-нибудь да стоит.
— Будь благоразумной, девочка.
Буковская принесла на подносе кофе. Она поставила чашки на стол, пододвинула Катажине сахарницу.
— Она считает его героем. — Доктор впервые за весь день улыбнулся. Однако улыбка его была горькой и саркастической. — У нас в ее возрасте тоже были свои герои. Как я ей могу объяснить, что человек, беспощадный в достижении своей цели, раньше или позже становится беспощадным к своим близким… Зачем эти слезы, мать, на нее они не произведут впечатления. Мы должны наконец себе прямо сказать, что у нас такая дочь, какой мы ее воспитали. Ребенок, на которого мы возлагали все наши надежды… — Доктор Буковский тяжело поднялся со своего стула. Выходя из-за стола, он не смотрел ни на жену, ни на дочь. Он шел тихо, волоча ноги, как совсем старый человек.
— Иди, скажи, что это неправда. — Мать, задыхаясь от слез, наклонилась над Катажиной. — Иди, дитя мое, ведь это не так!
Он вежливо постучал в дверь. Раз, другой. Но так как по-прежнему никто не отвечал, он толкнул ее и вошел в комнату, погруженную в полумрак. Ночник на столике освещал только кусок пола и часть кровати, на которой на правом боку, немного съежившись, спал пожилой мужчина в сдвинутых на конец носа очках, с открытой книгой, лежащей почти на краю кровати.
Валицкий мгновение колебался, потом подошел к кровати и легонько потряс спящего. Юзаля только пробормотал что-то сквозь сон и еще больше съежился. Пряди седых волос упали на его широкий, выпуклый лоб. Он дышал неровно, с трудом. «Старый, усталый человек», — подумал Валицкий, потом осторожно поднял книгу