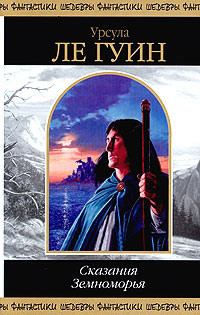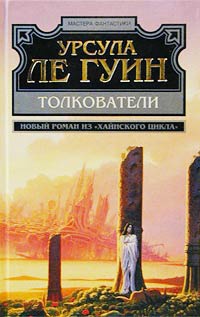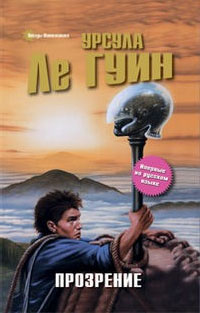— Хочешь послушать?
Ладислас поудобнее устроился за письменным столом, и Амадей прочел ему свою новую поэму, стоя, звонким, даже резковатым голосом, который не становился глуше и мягче даже в самых лирических местах. В этих стихах воплотилась, кажется, вся плавность, нежность и удивительная мелодичность его поэзии, но даже и намека на эти качества не было в его голосе и манере чтения. Это была некая фантазия, некий сон о разрушенном замке, где перед героем возникают мрачные и отрывистые образы, как бы порожденные окружающей его тьмой и затем вместе с нею исчезающие, неясные, тревожные, неожиданные.
Когда Амадей умолк, в кабинете некоторое время стояла звенящая тишина; потом Ладислас каким-то странным жестом выставил перед собой пустые ладони и, глядя на них поочередно, прошептал с улыбкой:
— Вот ты где, оказывается.
— Нет, это не я. Это оно, то место, Радико! Если только у меня получилось…
Ладислас вскинул на него глаза.
— Радико? В дурном сне…
— В реальной действительности. И собственной персоной. — Теперь голос Амадея звучал значительно мягче, словно он, прочитав поэму вслух, как бы освободился от владевших им чувств.
— Единственная дорога у нас в горах ведет именно туда; и добраться туда можно только по этой дороге — как во сне, когда у тебя нет никакого выбора, когда существует лишь один-единственный путь… Но ведь это страшно, Амадей, — неуверенно и мрачно сказал Ладислас, и Амадей торжествующе улыбнулся, принимая это как похвалу, как констатацию одержанной им победы.
— Ты всегда был моим лучшим читателем, Ладис! — Он сел, и братья посмотрели друг на друга — Ладислас, темноволосый, мрачноватый, настороженный, и Амадей, как всегда тщательно одетый, с отлично подстриженными и уложенными рыжеватыми волосами, спокойный, мерно постукивая свернутой в трубку рукописью по колену.
— Разумеется, это сон, — снова заговорил он. — Это не Радико сама по себе, а просто сон об этой башне, об этом месте… некое видение… Дело в том, что несколько месяцев назад, в июле… Не знаю, сумею ли я это описать! К этому времени я практически за полгода не написал ни строчки, и однажды ночью, в июле, меня вдруг снова потянуло… в один дом, куда я часто ходил раньше. К женщине, которую… Впрочем, ты эту историю достаточно хорошо знаешь. С этой женщиной я порвал больше года назад и уже снова начал было уважать себя, работая вместе с Сорде и его командой; я был, как бы это выразиться… В общем, я вернулся к ней; и она меня приняла. Разумеется, все это ее весьма забавляло; она даже отослала прочь своего нового любовника, чтобы освободить для меня место в своей постели. Я тогда напился, плакал, и она в итоге снова меня выставила. Это было ужасно… Я всю ночь бродил по городу, кое-что, главное, я до сих пор помню… А утром вернулся домой и завалился спать. Проснулся я уже вечером. В Красное июль всегда очень жаркий, и я, конечно, чувствовал себя отвратительно. Мне казалось, что так низко я никогда еще не падал. Я долго, в тупом оцепенении сидел у окна. Я целых пять лет снимаю эту квартиру исключительно из-за окна, которое выходит на тенистый парк и набережную. Прямо под моим окном растут огромные старые каштаны, а за ними видны лужайки, главная аллея и в конце ее набережная, вечно полная народа, карет, залитая солнцем, а уже за нею, вдали — фасад дворца, длинный и строгий. Все это внушает мне некую смесь ужаса и восхищения, а также — некую меланхолию, точно наступает конец чего-то… Итак, я сидел у окна, где сиживал прежде десятки тысяч раз, и теплый ветерок шевелил бумаги у меня на письменном столе, а меж деревьями, словно клубы пыли, тем временем сгущались сумерки. Я ни о чем не думал, я чувствовал себя совершенно опустошенным, выпитым до дна… Вот тогда-то мне и привиделся тот сон, если только это был сон. Я ведь не спал. Не знаю, что это было такое… Я бы даже пересказать это не мог. В своем романе я пытался описать человека, который не может уйти от собственной судьбы, и все, что он делает, является проявлением этой судьбы, ее частью, даже когда он уверен, что действует совершенно свободно. Вот и мой сон был примерно о том же. Я видел свою собственную жизнь — прожитую и еще только предстоящую — как некую дорогу, вьющуюся среди холмов. Но себя на этой дороге не видел: меня там просто не было. А дорога была, и я видел окрестные холмы, знакомые места, но не был уверен, знал ли я их прежде, или же узнаю только потому, что мне еще предстоит их увидеть? И это… это, собственно, все! Я не в состоянии описать этот сон, я не могу вернуть его назад. — Он сел, настороженный, будто к чему-то прислушиваясь. — Нет, бесполезно! — пожал он плечами. — Но впоследствии, когда я начал писать вот это, — он хлопнул рукой по рукописи, — и добрался до описания замка в ночи, я вдруг понял, что описываю одно из своих тогдашних видений, тот сон! Крепость Радико ночью, под дождем, в кромешной тьме, задолго до рассвета. Я видел ее перед собой. Видел среди бела дня, при ярком свете солнца, хотя находился тогда почти в четырех сотнях километров от нее! Как? Почему? Каким образом? Что это означало? Не знаю. Я больше не задаю подобных вопросов. Я не имею права их задавать. Я это право утратил. Я жил только своими мыслями и чувствами, питаемыми тщеславием, я жил в том мире, который создал сам и для которого сам придумал законы. Я сам выбрал этот мир снов и мечтаний. Но это оказалось связано с тем, что, проснувшись или очнувшись, обнаруживаешь, что больше не являешься гражданином того мира, где светит солнце. Что позабыл значение и смысл реальных вещей. Что утратил свои права на жизнь в этом мире…
— А разве человек обладал когда-либо такими правами?
Амадей не ответил. Ладислас встал; он казался особенно высоким и плотным в грубоватой куртке из овчины, которую надевал, работая в этой холодной комнате. Он прошелся задумчиво по комнате и сказал:
— Когда мне было двенадцать, а тебе шесть, мы ездили в Фонте к пасхальной мессе. Помнишь?
— Да. Пока мама была жива, мы ведь почти каждый год ездили туда, верно?
— Но в тот раз возвращались мы по старой дороге мимо Фастена и Радико, потому что мост над Гарайной снесло паводком. Ехать пришлось почти всю ночь. Мимо Радико мы проезжали незадолго до рассвета. Я хорошо это помню, потому что ты спал, а тут вдруг проснулся и все пытался открыть окно пошире. И всех призывал: «Посмотрите на замок, посмотрите на замок!» В итоге отец дал тебе подзатыльник, ты успокоился, и дальше мы снова поехали уже в тишине. Но я помню, что и с меня тоже сон моментально слетел, когда я увидел черный, мрачный силуэт башни на фоне темно-серого, лишь чуть-чуть начинавшего светлеть неба. В точности как в твоей поэме! Ты описал те самые мгновенья.
— Я этого совсем не помню. Двадцать лет прошло! Странно, как работает память, правда? — Амадей никак не мог унять дрожь, пальцы его не слушались. Эти мгновения детства, которые хорошо помнил его брат, а сам он даже вспомнить не смог… все это не имело объяснения, не имело ответа, все это было БЕЗДНОЙ, и он в ужасе от этой бездны отвернулся. — Как здесь холодно, Ладис, — тихо промолвил он наконец. — Пойдем-ка наверх, посидим у камина.
— Ты иди, — ответил брат. — А мне еще нужно с этим покончить.