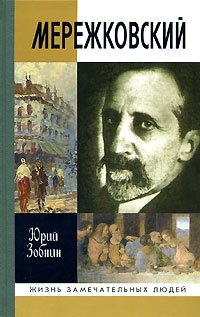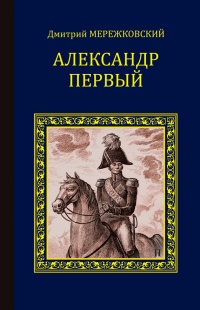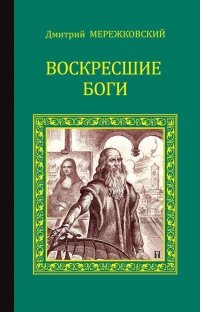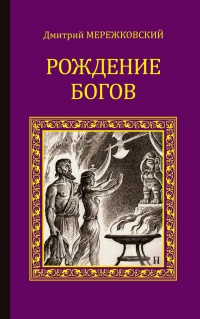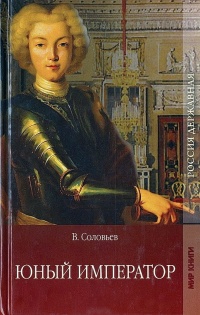Меня матушка плясамши родила,А крестили во царевом кабаке,А купали во зеленыим вине.
Такая тоска напала на Алешу, что он готов был размозжить себе голову о стену.
Вдруг, в темноте, кто-то сзади подкрался к нему, накинул на плечи шубу, потом опустился перед ним на колени и начал целовать ему руки – точно лизал их ласковый пес. То был старый солдат Преображенской гвардии, случайный товарищ Алеши по караулу, тайный раскольник.
Старик смотрел ему в глаза с такою любовью, что, видно, готов был за него отдать душу свою, и плакал, и шептал, словно молился за него.
– Государь царевич, свет ты наш батюшка, солнышко красное! Сиротка бедненький – ни отца, ни матери. Сохрани тебя Отец Небесный, Матерь Пречистая!..
Отец бивал Алешу не раз, и без чинов кулаками, и по чину дубинкою. Царь делал все по-новому, а сына бил по-старому, по Домострою о. Сильвестра, советника царя Грозного, сыноубийцы:
«Не дай сыну власти в юности, но сокруши ребро, донележе ростет; аще бо жезлом его биеши, то не умрет, но здравее будет».
Алеша чувствовал животный страх побоев – «убьет, искалечит» – но к душевной боли и стыду привык. Порой загоралась в нем злобная радость. «Ну, что ж, бей! Не меня, себя срамишь» – как будто говорил он отцу, глядя на него бесконечно-покорным и бесконечно-дерзким взглядом.
Но, должно быть, отец догадался об этом; он прекратил побои и придумал злейшее: перестал говорить с ним вовсе. Когда Алеша сам заговаривал, – молчал, точно не слышал, и глядел на него, как на пустое место. Молчание длилось недели, месяцы, годы. Он чувствовал его всегда, везде, и с каждым днем оно становилось все нестерпимее. Оскорбительнее всякой брани, страшнее всяких побоев. Оно казалось ему медленным убийством – такою жестокостью, которой не простят ни люди, ни Бог.
Это молчание было конец всего. Дальше – ничего, кроме мрака, и во мраке – мертвое, неподвижное, точно каменная маска, лицо батюшки, каким видел он его в последний раз. И мертвые слова из мертвых уст: «Яко уд гангренный отсеку, как со злодеем поступлю…
…
Нить воспоминаний оборвалась. Он очнулся и открыл глаза. Ночь все так же тиха; так же синеют белые башни соборов; золотые главы тускло серебрятся в черном звездном небе; Млечный Путь слабо мерцает. И в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, с неба на землю сходит предчувствие вечного сна – тишина бесконечная.
Царевич испытывал в это мгновение как будто усталость всей своей жизни; спину, руки, ноги, все члены ломило; кости ныли от усталости.
Хотел встать, но не было сил, только руки поднял к небу и простонал, точно позвал Того, Кто мог ответить:
– Боже мой! Боже мой!..
Но никто не ответил. Молчанье было на земле и на небе, как будто и Отец Небесный покинул его, так же, как земной.
Он закрыл лицо руками, склонился головой на каменную лавку и заплакал, сначала тихо, жалобно, как плачут брошенные дети; потом – все громче и громче, все безумнее. Рыдал и бился головой о камни и кричал от обиды, от возмущения, от ужаса. Плакал о том, что нет отца, – и в этом плаче был вопль Голгофы, вечный вопль Сына к Отцу:
Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?
Вдруг услышал, как тогда, зимнею ночью, на карауле, что кто-то в темноте подошел к нему, склонился и обнял. То был о. Иван, старый ключарь Благовещенский.
– Что ты, родимый? Господь с тобой! Кто обидел тебя, светик мой?..
– Отец!.. Отец!.. – мог только простонать Алеша.
Старик понял все. Тяжело вздохнул, помолчал, потом зашептал с такою безнадежною покорностью, что, казалось, устами его говорит сама дряхлая мудрость веков.
– Что делать, Алешенька? Смирись, смирись, дитятко! Плетью обуха не перешибешь. С царем не поспоришь. Бог на небе, царь на земле. Несудима воля царская. Одному Богу государь ответ держит. А он тебе не только царь, но и отец богоданный…
– Не отец, а злодей, мучитель, убийца! – крикнул Алеша. – Будь он проклят, будь он проклят, изверг!..
– Государь царевич, ваше высочество, не гневи Бога, не говори слов неистовых! Велика власть отчая. И в Писании сказано: чти отца своего…