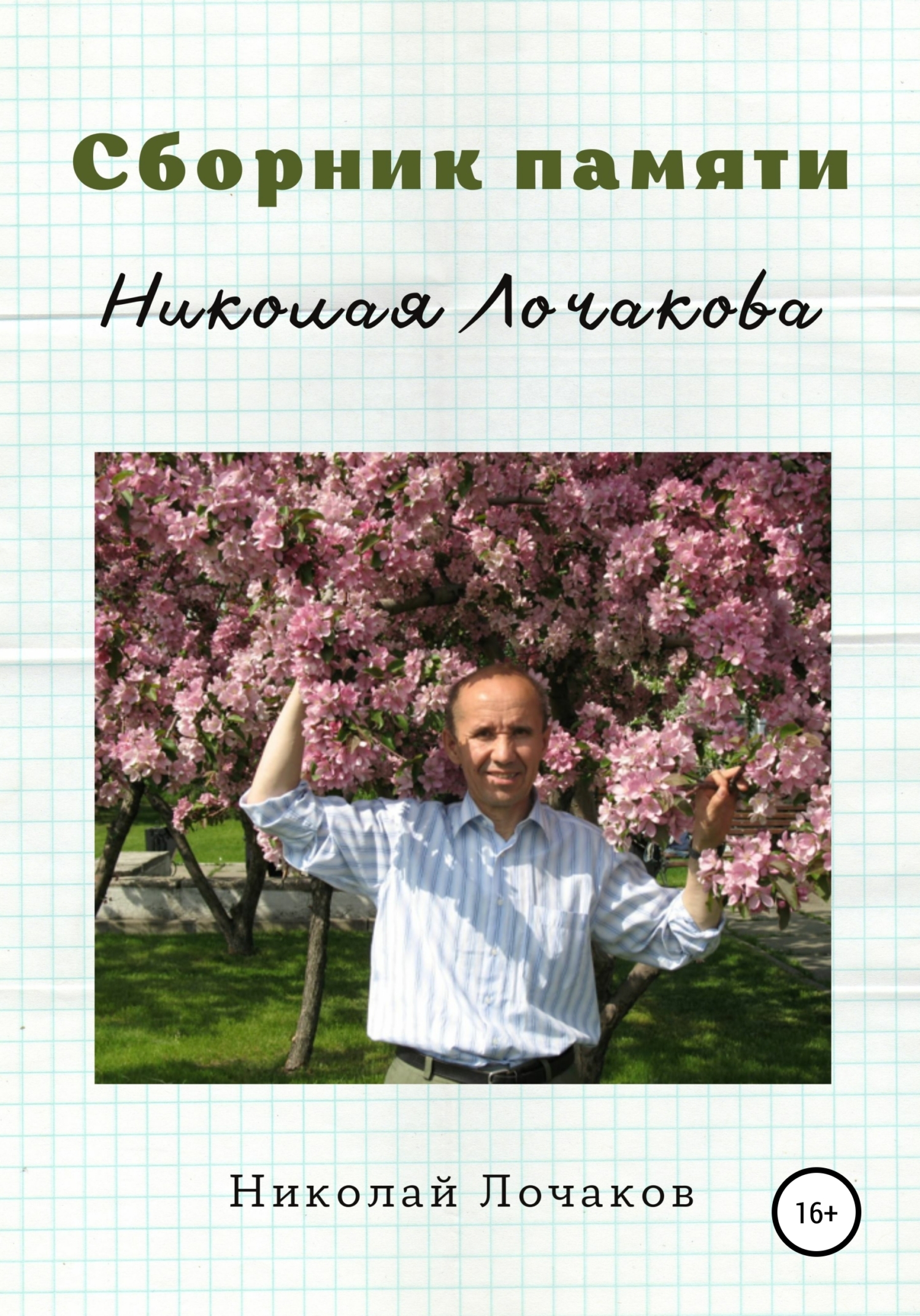Писала письма гаитянской поэтессе и делала наброски к «Элегии черной ночи».
Эти часы, когда после выступления я читала и писала, в то время служили мне утешением. Единственные часы, которые казались мне потраченными не совсем уж напрасно.
В тот период я изучала в университете философию, выступала со стриптизом в «Вотрене», переписывалась с поэтессой из Гаити и была беременна моей первой книгой: я чувствовала, что при родах не избежать кесарева сечения и для этого понадобится топор. Еще я читала. Я снова и снова перечитывала «Лабиринт бесчеловечности» и думала об Элимане, моем единственном маяке в этом океане дерьмовой жизни.
* * *
Сразу после приезда я не могла заняться его поисками: нужно было обустроиться, приобрести новые привычки, избавиться от старых, установить социальные связи. Это занимало все мое время. Но главное было постоянно помнить о нем, чтобы он не исчез из моего внутреннего мира. Его книга стала краеугольным камнем моей библиотеки. Я начала составлять библиотеку, подбирая книги на помойках или на садовых скамейках, кое-что покупала на ярмарках или на развалах у букинистов или получала даром у людей, желавших от них избавиться. Но вся ее структура держалась на «Лабиринте бесчеловечности». Элиман был невидимым королем в этом замке. Он лежал, объятый сном, в тайной комнате, и я должна была найти его, разбудить и освободить.
* * *
Воспоминания о годах, когда я бродила по улицам Дакара, преследовали меня, принимая форму кошмаров и наваждений, которые я еще не умела превращать в поэтические образы. Хотя к моим услугам были незажившие, открытые раны: оставалось только ими воспользоваться. Но перо, которое я обмакивала в них, оставалось сухим. Месяцы сменяли друг друга, чувство неудовлетворенности росло, неудачи накапливались.
Только потом, много позже, я поняла: если у тебя есть рана, из этого не следует, что ты должен сделать из нее литературу. Это не значит даже, что ты должен мечтать сделать из нее литературу. А о том, чтобы быть способным это сделать, и говорить нечего. Время – убийца? Да. Оно убивает в нас иллюзию, что наши раны уникальны. Они не уникальны. Никакая рана не уникальна. Ничто человеческое не уникально. Все со временем становится до ужаса обыденным. И получается тупик: но именно в этом тупике у литературы есть шанс родиться.
* * *
Поскольку я неизменно отвечала отказом на предложения клиентов пойти с ними в номер, очень скоро меня стали приглашать чаще других. Люсьен и Андреа никого не принуждали. Мы имели право говорить «нет». Но в «Вотрене» твое «нет» действовало ровно один вечер. Назавтра все начиналось снова. Новые попытки. Новые уговоры. Рассуждения о том, что со временем я буду смотреть на это иначе, а мои принципы будут постепенно осыпаться, как ветхая стена. Они делали ставку на податливость человеческой души, на ее жажду жизни, ее слабость, ее корыстолюбие.
Но я по-прежнему не соглашалась. Одни объясняли мои постоянные отказы ханжеством, другие – желанием набить себе цену; некоторые утверждали, что я фригидна. И никому не приходило в голову, что мне попросту скучно этим заниматься.
Скоро остались только две девушки, которые не соглашались уходить с клиентами: Дениза и я. Две неуступчивые негритянки (Дениза в этой ситуации, конечно же, переходила – или возвращалась – в категорию чернокожих). Фантазия у клиентов разыгрывалась. Какими только прозвищами нас не награждали: «Черная Гвардия», «Монашки-Близняшки», «Черные Девственницы», «Неуловимые Сучки», «Неприкасаемые» и еще много других, которые я уже забыла… Нас с Денизой это забавляло. Люсьен и Андреа специально ставили нас в одну смену, зная, что, помимо завсегдатаев, придут новые клиенты – поглазеть на нас из любопытства или попытаться взломать «Черную Задвижку» – это было еще одно из наших прозвищ.
* * *
Он начал приходить в начале 1985 года, в середине января. Клюнул на приманку, в которую превратили нас с Денизой? Не знаю. В первые вечера в «Вотрене» я его не видела. Это Дениза показала мне его однажды вечером. Мы танцевали, и вдруг она слегка наклонила голову в его сторону. И я впервые его увидела: он сидел один, в углу, спиной к залу. Когда мы с Денизой закончили танец и встретились в раздевалке, она сказала:
– Видела, африканский принц вернулся?
– Ни разу его здесь не замечала.
– Ты или очень плохо видишь, или очень рассеянная. У нас в клубе не так уж много черных клиентов. А таких, как он, что черных, что белых, вообще никогда не было. Он приходит каждый вечер, вот уже неделю, и садится на одно и то же место.
Я повторила, что никогда не замечала его, и это, в общем, неудивительно, если он всегда садился спиной к залу и носом к стене. Дениза сказала, что одно это уже должно привлечь к нему внимание. Возможно, она была права, но я его не видела, вот и все.
– Все остальные девушки без конца говорят о нем, – сказала она. – Он будит мечты. Он очень богат.
– Почему вы так решили?
– Не притворяйся, дорогая. Раз ты видела его, то не могла не заметить, что он не похож на наших обычных клиентов. Это дипломат. А может, министр. Он курит дорогие сигариллы. Может, это даже какой-нибудь президент. Знаешь, один из тех, кто, как рассказывают, приезжает в Елисейский дворец с чемоданом денег. У Франции сложные отношения с бывшими африканскими колониями, и ты это знаешь лучше меня, верно? Он же из Африки, как и ты. Представь себе: ты его охмуряешь, приглашаешь меня, нам больше не надо чахнуть над Шестовым или Ясперсом и мы сбегаем отсюда. Подумай об этом.
Я улыбнулась и не ответила. Мне очень нравилось читать Ясперса. Когда я впервые увидела этого парня, то даже не заметила, что он чернокожий, и уж тем более не подумала, что он богат. Единственное, что бросилось мне в глаза, когда я скользнула по нему взглядом, – это его одиночество. А ведь я видела в «Вотрене» много клиентов, которые сидели в одиночестве и молча пили, целиком во власти своих мыслей или алкоголя. Я бы даже сказала, других почти и не было. Но одиночество этого человека было какое-то особенное. Я не вполне уверена, возможно, мое воспоминание об этом моменте со временем исказилось. Но когда я думаю о нем, о мгновении, когда увидела его спину, я словно вижу цвет одиночества. Я тогда различила ауру вокруг него. Как бы ореол тускло-пурпурного цвета, с зеленым ободком, оттенок которого я не смогла бы назвать – я плохо разбираюсь в нюансах зеленого. Пожалуй, это был желтовато-зеленый. Это длилось секунду-другую, затем я снова сосредоточилась на танце и подумала, что я,