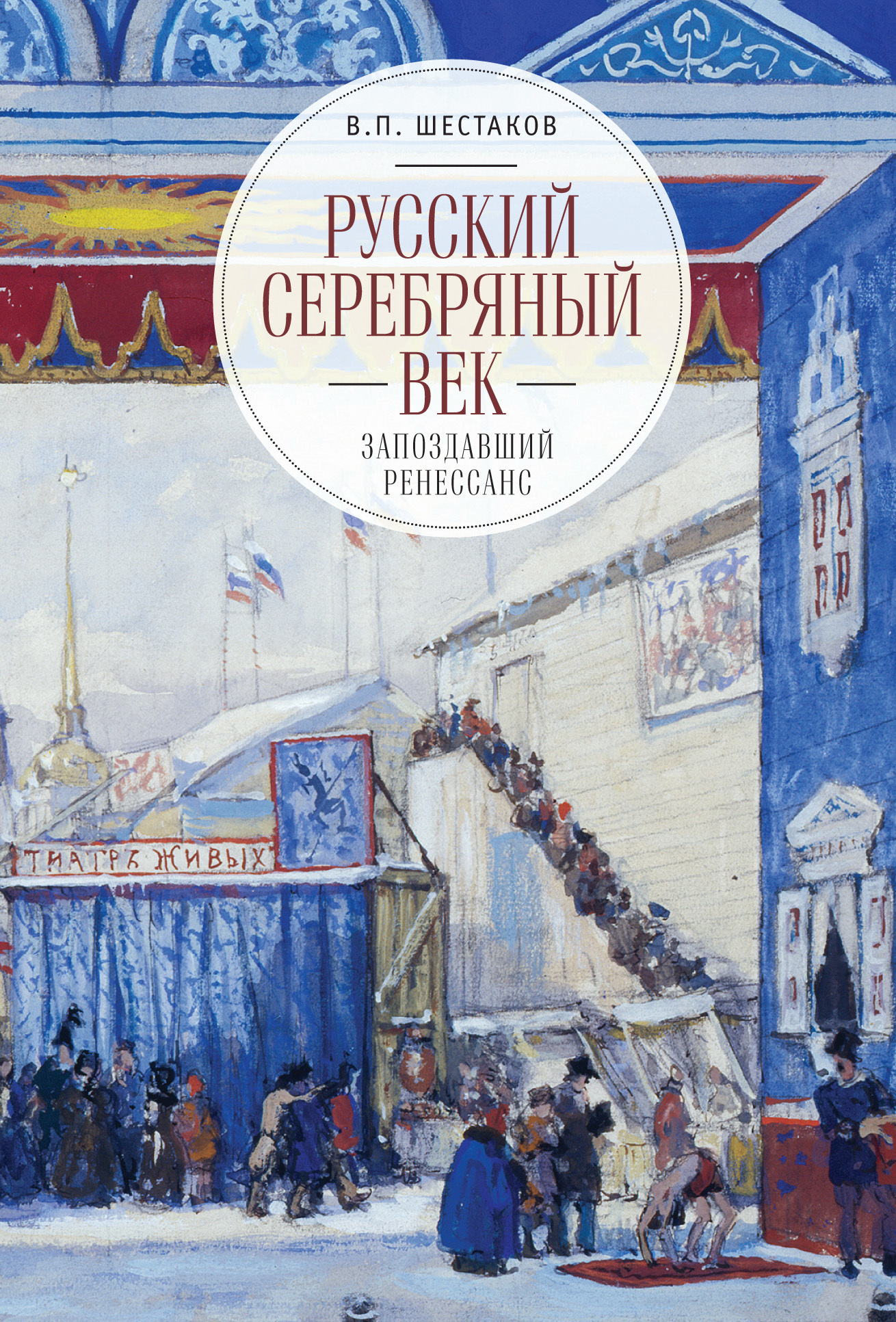интерес и внимание. На снимках отражена простая истина о человеческой природе, которая кажется слишком очевидной, для того чтобы ее постулировать (соблазн возвращения в детство? удовольствие от мнимого возвращения в детство?), но которую никогда не пытались представить с такой непосредственностью и остротой. Фотографии взывают к нашему чувству самоотождествления («Ничто человеческое мне не чуждо») – побуждая признать, что и мы способны испытывать схожие чувства, даже если изумлены тем, что некоторые среди нас решаются, не опасаясь огласки, разыграть свои фантазии наяву.
Шокируют ли эти фотографии?
Некоторые, очевидно, находят их шокирующими. Вероятно, это не те же люди, которых возмущают сексуальные снимки Роберта Мэпплторпа. Здесь шок порожден сценами из интимной жизни взрослых мужчин, которые, похоже, полностью отреклись от своей сексуальности.
Что до меня, я не считаю эти снимки ни шокирующими, ни даже внушающими беспокойство. (В жизни меня шокирует жестокость, а не грусть.)
Шок – впоследствии перерастающий в агрессивное неодобрение – кажется мне несколько бессмысленной реакцией на взрослых, которые с немалым драматизмом встали в позу беспомощности.
На большинстве снимков модели сидят, лежат, ползут. Они часто в кроватях или на полу. Они редко стоят в полный рост.
Они желают выглядеть маленькими. Но это, разумеется, невозможно. Вместо этого они выглядят сконфуженными.
Считается, что, когда фотографирование служит целям антропологии или этнографии, модели фотохудожника, которые выглядят определенным образом, в действительности себя не видят.
Однако эти снимки подсказывают, – некоторым именно эта их особенность внушает тревогу, – что модели Борланд не только хотят выглядеть таким образом, но и жаждут, чтобы их увидели.
В значительной степени сексуальные игры, воспринимаемые как девиантные, – это театр. Для них требуются костюмы. Они зависят от реквизита. Мир, созданный этими взрослыми, можно считать сексуальной фантазией; пусть даже большинство из них, будучи «пуристами детства», не живут половой жизнью.
В этих депрессивных комнатах разворачивается своеобразный театр. Это время игры.
Но здесь вовсе нет притворства.
И никаких манипуляций с камерой. Никакой обработки. В фотопроекте Борланд фотография – как некогда – след или отпечаток настоящего. Заключен негласный договор: эти люди – действительно (часть времени своей жизни) такие, как на снимках; они не устраивают для фотографа шоу. Поистине, Борланд должна была провести в их обществе долгие часы, завоевать их доверие, подружиться с ними, чтобы сделать эти снимки.
Вообразите, что бы мы чувствовали, если бы узнали, что эти мужчины – актеры, и что снимки были сделаны в течение единственного дня в некоем одном доме, а не в течение нескольких лет и в разных странах (как это было на самом деле).
Сила воздействия картинок зависит от доверия к фотографу – ничто здесь не придумано ради эффектного кадра.
Но нечто раскрывается в кадре.
Действительно ли эти «дети» уродливы – скажем, как люди в Платланде (Platteland) Роджера Баллена (1994)?
В чудесном альбоме Баллена c фотопортретами белых вырожденцев в сельской Южной Африке непривлекательность моделей и комнат, которые они населяют, имеет моральный и в конечном итоге политический подтекст. Здесь уродство будто свидетельствует об ужасающем обнищании духа и материальных обстоятельств. В альбоме Борланд сообщение о непривлекательности «фотомоделей» прочитывается труднее. Можно заключить, что это – в основном проблема масштаба, то есть несоответствия между воплощенной фантазией о нежной детскости и большими телами этих взрослых людей. Но можно также предположить, возможно ошибочно, что только взрослые, которые именно так и выглядят, могли бы испытать желание сотворить с собой «такое».
Каковы границы привлекательности – и непривлекательности? Фотоизображения расскажут нам об этом больше, чем любое другое средство представления. Возможно, мы больше не способны думать о привлекательности тел и лиц за пределами самонадеянного объектива камеры. Увеличивая, умаляя – камера судит, камера раскрывает окружающее. Взирая на мир, который открыла для нас Борланд, мы не знаем, находимся мы в Лилипутии или в Бробдингнеге. Ее блестящее достижение помогает нам понять, что, когда человек видит фотографически, он живет в обеих странах.
2000
Определенные Мэпплторпы
Пусть рассудок подсказывает, что фотоаппарат не направлен мне в голову подобно ружейному дулу – я испытываю страх всякий раз, когда позирую для фотопортрета. Это не тот хорошо известный во многих культурах страх – страх лишиться души или части личности во время фотографирования. Я не думаю, что фотограф, стремясь принести в мир факсимиле моего образа, что-либо у меня похищает. И всё же я отмечаю, что мое обычное восприятие самой себя изменилось.
В повседневности я ощущаю себя равнообъемной своему телу, в частности господствующему положению головы, ориентация которой (то есть фронтальность) – и выражение – есть мое лицо, на котором гнездятся глаза, смотрящие вовне, в мир; и моя фантазия, моя привилегия, возможно, моя профессиональная предвзятость состоит в том, чтобы чувствовать, будто мир ожидает моего взгляда. Когда меня фотографируют, такое пылкое, искреннее отношение сознания к миру словно застопоривается. Я поддаюсь господствующему сознанию другого – того, кто «противостоит» мне, если я согласилась на сотрудничество с фотографом (обычно для создания фотопортрета требуется готовность субъекта к сотрудничеству). Мое задвинутое в угол, убранное на полку, укрощенное сознание отказалось от своих основных обязанностей – сообщать мне простор и подвижность. Нет, я не чувствую угрозы. Я чувствую себя обезоруженной, мое сознание съежилось до комочка самосознания, пытающегося сохранять спокойствие. Будучи обездвижена пристальным глазом камеры, я ощущаю тяжесть лицевой маски, припухлость губ, разлет ноздрей, растрепанную шевелюру. Я ощущаю себя так, как если бы стояла позади собственного лица, выглядывая в оконца глаз, будто узник в железной маске из романа Дюма.
Претерпевая фотографирование, то есть позируя для фотографии (в продолжение сессии, обычно занимающей несколько часов, делается множество снимков), я чувствую себя пронзенной, пойманной в ловушку. В ответ на вожделенный взгляд я могу, в принципе, ответить таким же взглядом. Взгляды могут – в идеальном случае должны – быть взаимными. Однако на взгляд фотографа я никогда не смогу ответить взаимностью, если только мне не пришло в голову фотографироваться, скрыв свою голову за фотокамерой. Взгляд фотографа – это взгляд в чистом виде; взгляд обращен на меня, но желает того, что я не есть, – мой образ.
(Конечно же, фотограф может испытывать к модели влечение. Очевидно, что на многих из фотографий Роберта Мэпплторпа запечатлены объекты его желаний. Модель может быть избрана для фотографии, если фотограф охвачен вожделением, или испытывает романтическую привязанность, или восхищение – любое из радуги положительных чувств. Но в мгновение, когда делается снимок, взгляд, сосредоточенный на модели, слеп – это самый общий взгляд, различающий только форму. В эту секунду на этот взгляд невозможно ответить.)
Я становлюсь той,