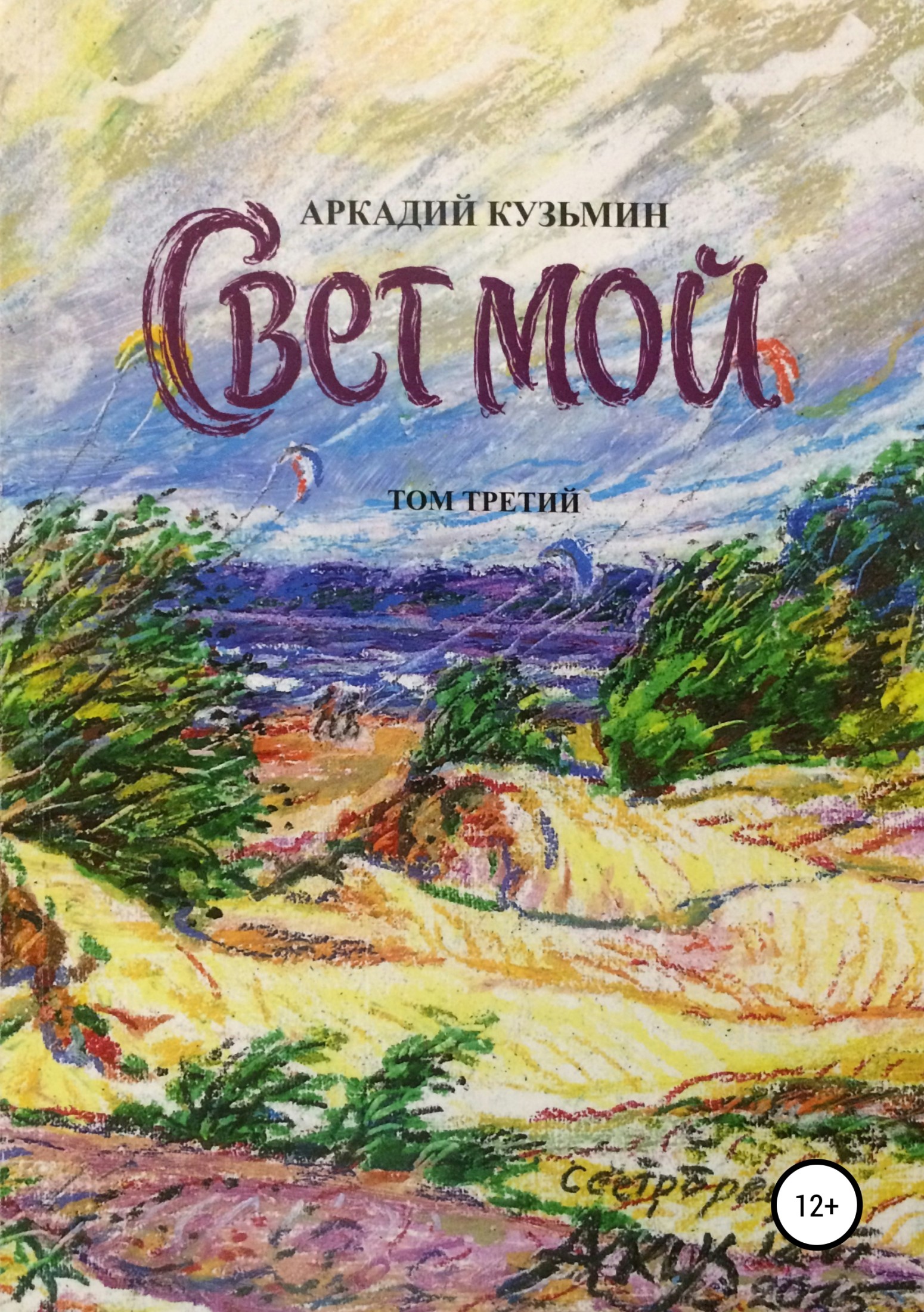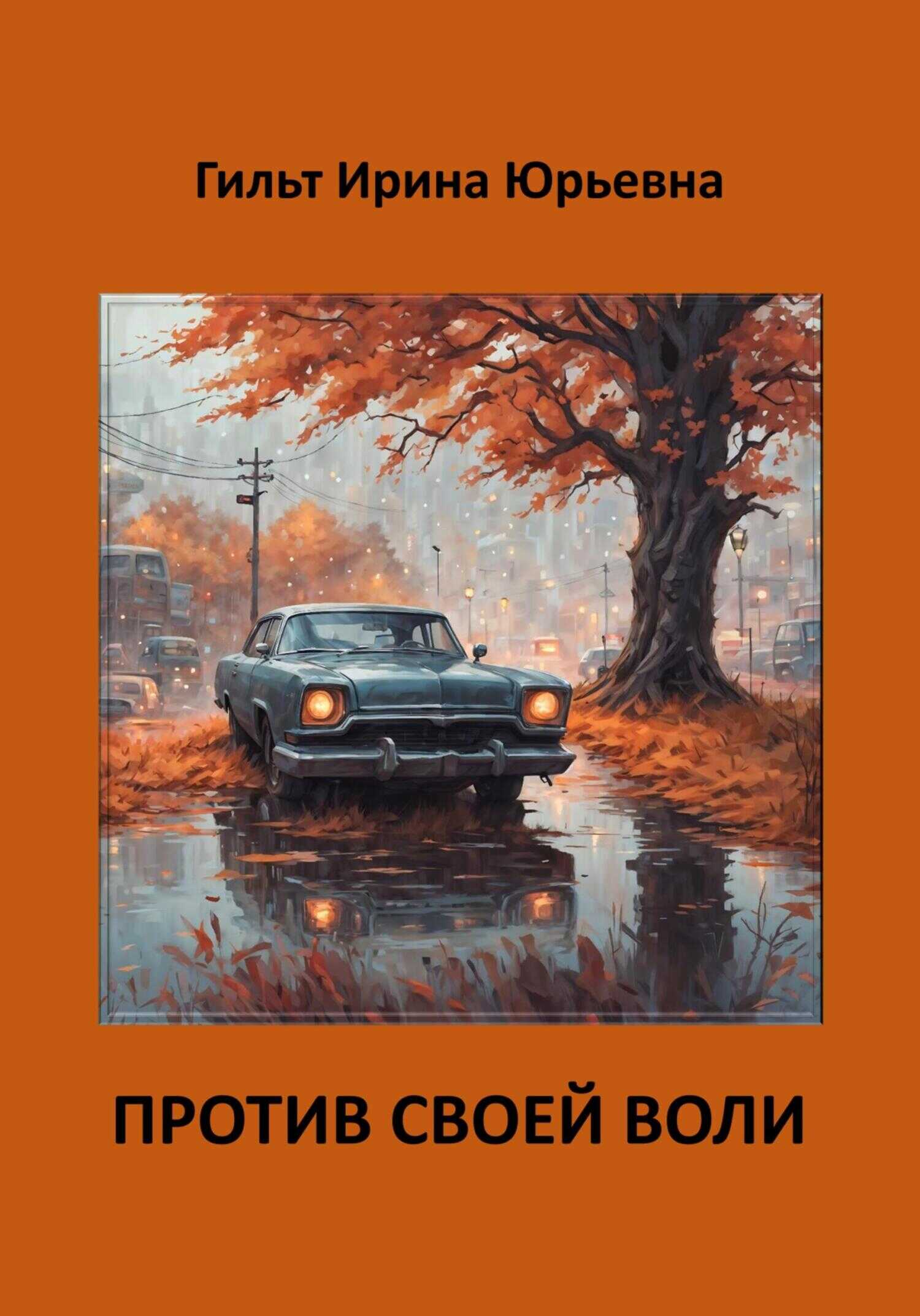клуня этакая, точно клуня), даже перестала думать то, о чем только что сейчас ошалело-неожиданно подумала в Заказнике, когда лес всерьез с собой сравнила, по себе примерила его несомненно чувствующее существо, все его деревья с веточками всеми и еще землей и воздухом, которые тех питали соками какими-то, – что, наверное, настолько же теперь человечьим телом своим тоже запаршивела и сами все они, бегущие, ползущие к себе домой, давно не мытые как следует, не скобленые докрасна мочалкой с мылом: вши и гниды, разумеется, еще не заели их совсем, но позавелись в волосах и платье, помаленьку слышно ползали и ели. Спрашивается, к каким это предстоящим переменам в жизни?
Они брошенные всеми, выселенные женщины и дети, вероятно, только потому и стали теперь странствующими беглецами – потому что этих перемен они не столько ждали с милостивой покорностью и святой мольбой, со слезами на глазах, а сколько ждали страстно, непокорно и неумолимо рвались и карабкались вперед побыстрее изо всех потуг и силенок, порой рассудку и страху вопреки.
Да, вот оно, отличительное свойство людей от вросших в почву братьев-деревьев, которым на роду было заказано стоять на месте и ждать чего-то от капризов природы и людей жестоких, заключалась именно в том, что они не дожидались сиднем сидючи часа избавления от насевших нелюдей, а могли хотя бы уползти на четвереньках, когда можно было. Ими деятельность двигала.
Вышли уж на окаймлявшую близь Ромашино заказницкую окраину.
Здесь проселочная, в точности уже известная, как персты свои, дорога по еще натянутому, коркообразному, но будто уже ячеистому, уже выпустевавшему изнутри, снеговому покрывалу, которое под солнцем сверкало расплавленным хрусталем, также являла собой, являла во всю значительную ширину свою; вместе с закраинами и какими-то объездами, или ответвлениями, сплошное и глубокое (в зарослях) – по пояс – месиво. Что тоже указывало очень верно, надежно на всеобщее бегство отсюда неприятеля, не иначе. Иначе быть не могло. Допустить нельзя. Оставленные в снеговом, прихваченном слегка морозом, покрове колесные и другие прорези-следы были до того глубоки и широки, что только и следи за тем, чтоб не завалились и не опрокинулись над рытвинами санки. Из-за этого-то до обидного медлительно, конечно, продвигались. Тогда как почти что рядом, вот уже, сполна проступили в розоватой дымке освещенные мягким робко-дрожащим солнцем знакомые до невыразимо радостной боли очертания сгорбленной деревни, по которой так соскучились – она словно бы застыла в ожидании чего-то.
Как будто вечность целая прошла с того дня, когда они, возвращающиеся сюда по собственному хотению (и порыву), сколько их не пинали и не толкали взашей, покинули ее.
Сейчас, с каждым следующим шагом приближаясь к родной деревне, видно, выстывшей жильем и их человеческим запахом за время их отсутствия, блудные-неблудные ее дочери и сыновья, вглядывались в нее пристально, ревниво: более всего, разумеется, тревожило как-никак – все ли здесь сейчас спокойно, тихо? Нет ли немцев? Да, даже и у самой, по существу, цели они, не доверяя никаким своим головокружительным догадкам и предположениям, еще мыслили по-старому, надежнее – прочно завладевшими всем их существом категориями разумного в этих условиях самосохранения, и, хотя душа уже просилась петь, робко начинала выводить мотив, они еще боялись преждевременно восторжествовать, чтобы не расслабиться и не попасть впросак таким самым что ни на есть глупейшим образом. Это останавливало всех.
Свободно шагавшая одна, без всякой ноши и без маминой руки, Вера, которая, очевидно, также сильнее чувствовала приближение какой-то торжественно-важной минуты от того, чего всем хотелось до безумия достичь, как завидела да узнала родную деревню, так и непосредственно, по-детски, все позабыв, припустила к ней вприпрыжку, хотя устала тоже, со словами, которые она послала мимоходом через плечо…
– Я сейчас… Слетаю туда… И погляжу… – И с тем, отделившись, мигом всех опередила, не успел никто даже попытаться ее задержать.
Хуже того, кто-то еще благословил ее весело – в тон ей:
– Да, пожалуйста, махни, Верочка, касатик!
– Ой, – ужаснулась Анна мгновение спустя, – нет, подумать только! Послали семилетнюю девчонку в разведку – неразумные искатели! Кто ж из нас малее да глупее, не пойму, – она или мы, взрослые?! Определенно – мы, должно, если так.
XIII
Охотно побежала вперед Вера, пока не видя ничего такого, чтобы ей чего-то устрашиться, убояться, и не думала ничуть о том, что ей могло быть отчего-нибудь страшно. Припрыгивая, она добежала до крайней землянки своей, распахнутой настежь. Всюду царило непривычное безлюдье, поражавшее воображение, и все было брошено, или выброшено, и пораспахнуто, или побито.
Единственное существо, кого Вера встретила здесь, у землянки, была их серая кошка Мурка, похудевшая, с опавшими боками, но тотчас узнавшая ее; она замяукала жалобно и вместе с тем обрадованно, стала ластиться у ее ног. Так ведь было и осенью 1941 года, когда уезжали от бомбежек в Строенки и Дубакино: Мурка и тогда, пережив отсутствие своих хозяев, очень радовалась возвращению их. То же было и теперь. Тоже две недели прошли. Покамест они были в изгнании.
Второпях, уже пугливо, побегала, побегала Верочка меж покинутых землянок и мощных немецких блиндажей, нашлепанных везде в Ромашино, как водилось, за счет отнятых силой у живущего населения и разобранных изб и иных деревянных построек, словно как в какой неведомой глухомани – одна-то, такая пигалица – от горшка два вершка, да и разобрал ее по-настоящему испуг; испугалась она небывало застойной здесь, под линией фронта, тишины, к которой не привыкли, и неправдоподобного безлюдья. Сердечко у ней заколотилось чаще, чаще да отчаянней. Слыхать далеко, пожалуй, было. И тогда, будто бы ликуя сквозь заколотившуюся эту дрожь, помчалась она, сколько позволяли ей великоватые семимильные валенки и одежда грубая, хлопавшая по коленям длинными полами, уже навстречу своим, чтобы поскорее быть ей вместе с ними, около них и так зарядиться снова храбростью, спокойствием. Вместе-то, что ни говори, бесстрашней.
– Что там? Как? – приостанавливаясь, набросились на нее с вопросами подходившие.
С ходу она выпалила, добежав, запыхавшаяся:
– Там все разорено и нет никого, ни единой душеньки, одна киска наша бродит, жалобно мяукает, вот! – и взяла мать за руку. Теплую. – Наверно, тоже хочет есть.
– Что, и тети Поли еще нету, солнышко? – только удивилась Анна. – Ну и ну!
– Не, мам, не видала я. Только видела, что стекла у ней выбиты. В избе.
– Господи, спаси ее! Одна с бабкой, может, где-то надрывается… А ушла она ведь много раньше нашего оттуда. На неделю раньше. Ну, пойдемте, детушки, быстрей; уж последний-то подъем теперь возьмем – и, считайте,