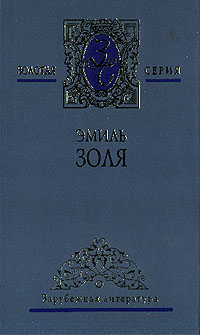нему руки. Но вспомнив обо всем том, что уже легло между ними, в смятении кинулась назад. Натолкнувшись на стоящую рядом Анну Константиновну, она почти упала ей на руки и горько, в голос зарыдала, спрятав у ней на плече пылающее от стыда и горя лицо.
Люди молча стоят вокруг, сразу посерьезневшие, посуровевшие. Все понимают неуместность Тосиных слез тут, на улице при народе, слез девушки из хорошей семьи по чужому ей человеку. Но никто сейчас не осуждает ее за это. Все разделяют ее горе и понимают, что горе это и выше и сильнее тех условностей и обстоятельств, которые делают людей мужьями и женами.
Понимает это и Андрей. Он роняет на землю вожжи и нерешительно, виновато подходит к Тосе, хочет взять ее за руку, что-то сказать. Но Тося поднимает голову, взглядывает на него сквозь слезы.
— Не надо, Андрюша… Не надо… — говорит она, рыдая. — Иди своей дорогой… Лучше уезжай, коли собрался, а я… — Не договорив и закрыв лицо руками, она быстро уходит.
Андрей, постояв с минутку, тихо подходит к лошади, поднимает с земли вожжи и еле слышно говорит брату:
— Что ж… поехали, Степан.
И они поехали…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Едва только телега Кузнецовых медленно скрылась за поворотом, с противоположного конца улицы ко двору Захара на взмыленном жеребце подъезжает Геннадий Иосифович. Бросив лошадь у ворот, он энергично пробивается сквозь толпу к избе и набрасывается на Захара.
— Прохлаждаетесь! Долиберальничали с кулачьем, доцацкались с кузнецом своим! — кричит он на него. И увидев Анну Константиновну, которая вышла на шум, кидается к ней. — Аня! Ты представить себе не можешь! Я сам не понимаю, каким чудом уцелел! Бедный, бедный Тарасов! Ты понимаешь? Мне сразу показалось подозрительным, что этот кузнец подъезжает к лесу одновременно с нами… И вот только мы въехали в лес, вдруг навстречу четверо бандитов с обрезами! Я хлещу лошадь, но они полоснули почти в упор. Бедный Георгий Михайлович свалился замертво! Я едва отбился! Надо сейчас же снаряжать облаву, — командует он Захару. — Бандиты не могли далеко уйти! Обязательно поймать и кузнеца этого и бандитов, с которыми он, несомненно, связан, и в особенности главаря их, этого неуловимого Федьку…
Геннадий Иосифович осекается, и загорелое самоуверенное лицо его бледнеет, делается жалким и растерянным.
В сенях на соломе он видит окровавленного Федьку. А еще дальше, за раскрытыми дверями, он заметил Тарасова.
— Георгий Михайлович! — оправившись наконец от растерянности, с искренней радостью кидается к нему Геннадий Иосифович.
Всю дорогу, пока объезжая кругом опасное место, он торопливо добирался до деревни, его не оставляло тяжелое чувство сожаления о Тарасове. Он и сейчас еще не может полностью восстановить в памяти, как все получилось.
Когда близко у дороги в лесу раздался выстрел, испуганный конь дернулся, понесся вскачь. Геннадий Иосифович удержался за вожжи, а Тарасов слетел на землю не то убитый, не то смертельно раненый.
Потом Геннадий Иосифович клял себя за то, что не остановил коня, не пришел на помощь товарищу. Но в ту минуту, когда рванувшаяся лошадь вскачь понеслась по дороге, им владело только единственное желание: не упасть с ходка, не попасть в руки бандитам, как Тарасов.
Поэтому сейчас, увидев Тарасова, он с неподдельной радостью жал его руку, восклицая:
— Жив все-таки! Черт возьми! А я-то ведь думал, прикончили они тебя! Вот здорово, что ты спасся! Как же это тебе удалось?!
— Удалось вот, — односложно отвечает Тарасов, загадочно улыбаясь. Но он не укоряет Геннадия, не разоблачает перед всеми его трусости.
«В конце концов, виноват он только в том, что испугался, — снисходительно думает Георгий Михайлович, тронутый искренней радостью Геннадия Иосифовича, увидевшего его живым. — А в первый раз с кем это не случается. Я в семнадцатом тоже испугался, когда к юнкерам попал в засаду… Потом он все-таки ведь справился со страхом, раз вернулся в деревню, чтобы устроить погоню за бандитами. К тому же он сейчас, кажется, здорово стыдится всей этой истории…»
И Тарасов, пожалев Геннадия Иосифовича, не стал его ни о чем расспрашивать.
Но Федька Геннадия не пожалел! С той самой минуты, как его привезли сюда и после перевязки положили в сенках, он был совершенно равнодушен ко всему, что происходило вокруг. Даже для его забубенной головушки оказалось не под силу стойко перенести все беды, которые свалились на нее в последнее время — разоблачение, разорение отца, бунт Тоси и, наконец, позорное поражение в последней смертельной схватке в лесу.
Теперь, признавши полное свое поражение, махнувши на все рукой, он лежал, закрыв глаза, ни о чем не думал, не переживал ни страха за свое будущее, ни сожаления о происшедшем. Лишь когда появился Геннадий Иосифович и начал врать и хвастать, Федька, видя в нем своего рода тайного сообщника, злорадно осклабился.
Но вот Геннадий Иосифович, увидев, что Тарасов жив, с радостью бросился к нему. И именно этой-то радости, главное же — неподдельной искренности ее никак не мог Федька простить. И выждав подходящую минуту, он, скосив глаза в сторону Геннадия Иосифовича, сказал громко и насмешливо:
— Ну, теперь мы квиты с вами, гражданин начальник, Геннадий Иосифович. Из-за вас ведь я в него промазал, — метнул злой взгляд в сторону Тарасова Федька. — В вас боялся попасть. Это за то, что вы меня третьеводни из Домниной горницы выпустили! Я понимаю, вы это из-за своей шкуры выручили меня, как бы я про бумагу не выболтнул, за которую мой батя вам две сотни отвалил. Ну, а теперь мы — квиты. Вместе за решеткой сидеть будем.
И Федька бесстрашно издевательски захохотал, глядя, как окончательно потерялся изменивший ему союзник.
— Мер-р-рзавец! — прошипел Геннадий Иосифович, с пылающим лицом проходя мимо Федьки. — Пойдем, Аня! — ухватил он за руку Анну Константиновну и почти силой увлек ее на улицу прочь от Захарова двора.
— Мерзавец! Вот мерзавец! — шептал он, возбужденно, шагая рядом с женой и не смея взглянуть на нее.
Ему было невыносимо стыдно! Он знал, что сказанного Федькой при Тарасове вполне достаточно для того, чтобы вся его карьера провалилась в тартарары. Но не от этого надрывалась, изнывала сейчас его