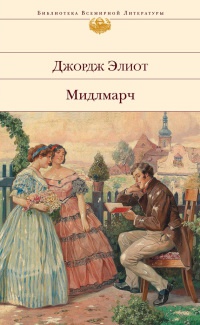Thou sweep'st us off is with а fl ood;We vanish hence like dreams…[17]
казалось, ближе обыкновенного применялись к смерти бедного Матвея. Мать и сыновья слушали каждый из них с особенными чувствами. Лисбет имела неопределенную веру в то, что псалом принесет пользу ее мужу; он составлял часть приличных похоронных обрядов, и она думала, что лишить его этой части было гораздо хуже, нежели причинять ему множество неприятных дней при жизни. По ее мнению, чем больше говорили о ее муже, тем больше, значит, делали для него, тем ближе, конечно, он был к спасению. Бедная Лисбет имела неясное сознание, что человеческая любовь и сострадание служат основанием веры в другую любовь. Сет, которого легко было тронуть, проливал слезы и старался припомнить (как он беспрестанно делал после смерти отца) все слышанное им о том, что один момент сознания мог быть в последнюю минуту моментом прощения и примирения, ибо в самом псалме, который пели, не было ли написано: «Божественные дела не измеряются и не ограничиваются временем»? Адам прежде всегда мог петь псалом вместе с прочими. Он вынес много беспокойств и огорчений с тех пор, как перестал быть мальчиком, но это была первая печаль, лишившая его голоса, и, довольно странно, эта печаль происходила от того, что главный источник его прошлых беспокойств и огорчений исчез от него навеки. Ему не удалось пожать руку отцу перед разлукою и сказать: «Отец, ты знаешь, что все было хорошо между нами; я никогда не забывал, чем обязан тебе с самого детства. Прости мне, если я иногда бывал слишком горяч и вспыльчив». В тот день Адам мало думал о тяжком труде и заработке, которыми он жертвовал своему отцу; его мысли беспрестанно приводили ему на память, что должен был чувствовать старик в минуты унижения, когда склонял голову под выговорами сына. Когда мы видим, что наше негодование переносится с покорным безмолвием, то мы склонны чувствовать угрызения сомнения впоследствии относительно нашего собственного великодушия и даже справедливости, тем более когда предмет нашего негодования стал навеки безмолвен и мы видели его лицо в последний раз во всем смирении смерти.
«Увы! Я всегда был слишком жесток, – думал Адам. – Это весьма дурной недостаток во мне, что я так горяч и нетерпелив с людьми, когда они поступают дурно, и мое сердце закрывается для них, так что я не могу переселить себя и простить им. Я довольно ясно вижу, что в моей душе больше гордости, нежели любви; я скорее тысячу раз ударил бы молотком для отца, нежели принудил бы себя сказать ему ласковое слово. Да и к этим ударам присоединялось много гордости и гнева, так как дьявол непременно хочет участвовать и в том, что мы называем нашими обязанностями, так же точно, как в наших грехах. Может быть, лучшие вещи, которые я делал в жизни, было мне легче всего исполнить. Мне всегда было легче работать, нежели сидеть спокойно, но самым важным подвигом для меня было бы победить мою собственную волю и гнев и прямо противодействовать моей собственной гордости. Мне кажется теперь, что, если б я нашел отца дома сегодня вечером, я обошелся бы с ним иначе; впрочем, как знать, может быть, ничто не было бы для нас уроком, если б не случалось слишком поздно. Хорошо, если б мы почувствовали, что жизнь есть счет, который мы не можем переделать вторично; действительно мы не можем делать никаких исправлений на этом свете, точно так, как не можем исправить ошибку в вычитании, сделав верно сложение».
Вот была тоническая нота, к которой беспрестанно возвращались мысли Адама после смерти отца, и торжественный скорбный напев похоронного псалма производил только то действие, что прежние мысли возвращались с новою силою. Такое действие имела и проповедь, которую выбрал мистер Ирвайн по случаю погребения Матвея. В ней коротко и просто пояснялись слова: «Среди жизни мы находимся в смерти», только настоящую минуту мы можем назвать своею собственной для совершения деяний милосердия, правдивой взаимности и семейной любви. Все это весьма старые истины, но то, что мы считали самою старой истиной, становится для нас самою поразительной на той неделе, когда мы смотрели на мертвое лицо человека, составлявшего часть нашей собственной жизни. Ибо, если люди хотят произвести на нас впечатление действием нового и удивительно яркого света, разве они не заставляют его падать на самые знакомые для нас предметы, чтобы мы могли измерить его яркость сравнением с прежнею неясностью этих предметов?
Затем наступила минута последнего благословения, когда те вечно высокие слова «мир Божий, превосходящий всякое понимание», казалось, сливались с спокойным сиянием вечернего солнца, падавшим на склоненные головы собрания. Затем все тихо встали; матери стали завязывать шляпки у маленьких девочек, спавших во время проповеди; отцы собирали молитвенники. Наконец все устремились чрез старую арку прохода на зеленевшее кладбище, и тут начались разговоры между соседями, их простые вежливости и приглашения к чаю. В воскресенье всякий был готов принять гостя, ведь в этот день все должны быть в лучших платьях и в лучшем расположении духа.