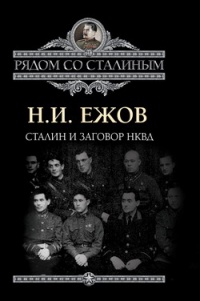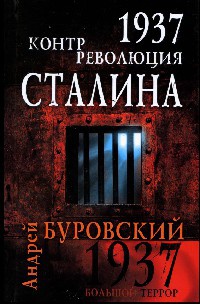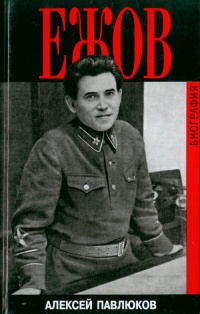О том, что случилось после вынесения Ежову приговора, рассказал в своих мемуарах присутствовавший на судебном заседании и при исполнении приговора заместитель Главного военного прокурора Н.П. Афанасьев. По его словам, после заседания Ежова вернули в камеру, а через полчаса его вновь вызвали для оглашения смертного приговора. «Услышав это, Ежов сразу же как-то обмяк и стал валиться на бок, но конвой его удержал и под руки вывел за дверь». Через несколько минут к Ежову в камеру вошел Афанасьев и заявил, что он имеет право подать в Верховный Совет СССР прошение о помиловании и замене смертной казни. По словам Афанасьева, Ежов «лежал на койке, как-то глухо мычал», потом вскочил, быстро заговорил: «Да, да, товарищ прокурор, я хочу и буду просить о помиловании. Может быть, товарищ Сталин сделает это». Поскольку в камере было слишком темно, они перешли в следственный кабинет, где Ежов размашистыми каракулями (у него дрожали руки) написал короткое заявление. Афанасьев передал заявление Ульриху, который из кабинета начальника тюрьмы связался по телефону с Кремлем. Через полчаса он вернулся и объявил, что в помиловании отказано{768}.
Относительно процедуры вынесения приговора, описанной Афанасьевым, возникают некоторые сомнения и вопросы. Особенно если вспомнить о нормах закона от 1 декабря 1934 года, согласно которым не допускалось кассационного обжалования приговоров и подачи ходатайств о помиловании, а приговор приводился в исполнение «немедленно по вынесении приговора»{769}. Именно поэтому осужденным по этому закону, как правило, не объявляли о вынесенном смертном приговоре. О том, что их расстреляют, они узнавали непосредственно на месте казни. Конечно, на практике бывало, что приговор приводили в исполнение не в тот же день, а позднее. Ну, уж кто-кто, а Ежов должен был знать, что ходатайство ему подавать не положено. И если в деле Ежова были сделаны такие отступления от нормы, то совершенно непонятно — почему? По крайней мере, Афанасьев этого не объясняет.
Как пишет Афанасьев, Ежова расстреляли той же ночью[92], в особом помещении для расстрелов, которое когда-то приказал оборудовать сам Ежов. Вероятнее всего — на специальном объекте НКВД в Варсонофьевском переулке, недалеко от основного здания на Лубянке. По свидетельству заместителя Главного военного прокурора Афанасьева, присутствовавшего при исполнении приговора, это было старое приземистое здание в глубине двора, с толстыми стенами. Афанасьев должен был удостоверить личность расстрелянного. Приговор приводился в исполнение в большом помещении с покатым цементным полом. Дальняя стена была забрана бревнами; в помещении были водяные шланги. Расстрел производился непосредственно перед бревенчатой стеной. По словам Афанасьева, перед расстрелом Ежов повел себя трусливо. Когда он объявил Ежову, что его прошение было отклонено, «с ним случилась истерика. Он начал икать, плакать, а когда был доставлен на «место», то его вынуждены были волочить за руки по полу. Он отбивался и страшно визжал»{770}.[93]Приговор приводил в исполнение, по всей видимости, самолично комендант НКВД В.М. Блохин. Кроме Афанасьева и Блохина, при расстреле присутствовал начальник 1-го спецотдела НКВД Л.Ф. Баштаков. Именно их подписями скреплен акт о приведении приговора в исполнение. Согласно этому акту казнь Ежова состоялась 6 февраля 1940 г.[94]Причем в этот день помимо Ежова был расстрелян еще только один человек — Николаев-Журид. В предыдущие и последующие дни лубянский конвейер смерти работал более производительно.
После приведения приговора в исполнение тело Ежова было положено в металлический ящик и отвезено в крематорий; при кремации присутствовал Афанасьев{771}. Кремированные останки Ежова были сброшены в общую могилу на Донском кладбище в Москве. В ней же ранее был захоронен прах расстрелянного Бабеля. Евгения Ежова покоится на том же кладбище, рядом с тремя своими братьями{772}. В печати и по радио о процессе над Ежовым и его казни ничего не сообщалось.
После ареста Ежова его приемную дочь лет семи, Наталью, забрали у няни Марфы Григорьевны, которая после смерти Евгении Соломоновны присматривала за ней на даче Ежовых, и поместили в Пензенский детский дом. Ее заставили забыть свою фамилию и взять прежнюю фамилию ее матери — Хаютина. По окончании школы в 1958 году она добровольно уехала жить в далекий Колымский край — один из самых печально известных районов ГУЛАГа, — и стала учителем игры на аккордеоне в местной школе. По свидетельствам очевидцев, на рубеже тысячелетия она живет на нищенскую пенсию в однокомнатной квартире в поселке Ола в припортовой зоне Магадана; у нее дочь Евгения (названная в честь приемной матери Натальи) и семеро внуков. Жизнь у Натальи была очень тяжелой. Всю жизнь я жила в страхе, — призналась она в своем интервью. Несмотря на это, Ежова она вспоминает как нежного и любящего отца; даже теперь, когда всплывают все новые и новые подробности его кровавых злодеяний, отречься от него она не готова{773}.
В 1995 году Наталья обратилась в Прокуратуру с ходатайством о применении к ее отцу Закона «О реабилитации жертв политических репрессий», принятого в октябре 1991 года. Она выдвинула следующие аргументы: «Ежов — продукт господствующей тогда системы кровавого диктаторства. Вина Ежова в том, что он не нашел в себе сил отказаться от рабского служения Сталину, но его вина перед советским народом ничуть не больше, чем вина самого Сталина, Молотова, Кагановича, Вышинского, Ульриха, Ворошилова и многих других руководителей партии и правительства»{774}.