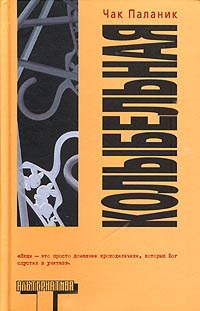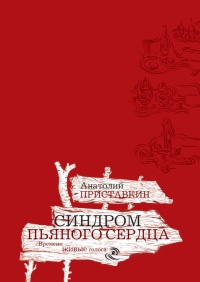Смотрю на лица родителей в моем ряду. У них серьезный, сосредоточенный вид. Один мужчина потирает подбородок; его челюсть сжата, напряженный рот чуть приоткрыт. Представляю, как папы юных актрис сейчас свыкаются с мыслью, что их дочери ощущают себя вполне уютно — и выглядят вполне убедительно — в роли девок, которые притворяются, будто им приятно, когда их трахает пьяный подросток, в свою очередь притворяющийся, что умеет трахаться.
Когда звуки совокупления становятся все громче, один папа поворачивается к жене и с полуулыбкой шепчет ей на ухо что-то смешное. Он хихикает, но она улыбается и ведет себя так, будто его нет; все ее мысли о бедных евреях. Он пытается разрядить обстановку в сложной ситуации; во второй раз, когда он разрешил бойфренду дочки переночевать у них, он убеждал себя что это батареи скрипят или ветер на заднем дворе — но так и не убедился и прислушивался всю ночь.
В конце спектакля я хлопаю в ладоши двадцать четыре раза.
Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас.
Актеры выходят и кланяются. Потом удаляются ненадолго за кулисы, но отсутствуют не так долго, чтобы зрители засомневались, продолжать хлопать или нет, и возвращаются на бис. Они простирают руки к Зоуи, которая сидит в своей берлоге, в своей клетке — будке звукооператора. Наверное, они приносят ей дополнительную порцию еды, если она не допустит ни одной ошибки. Они хлопают ей и смотрят наверх, на лампы.
Я приземляюсь на один из продолговатых диванов, расставленных змейкой вдоль стен фойе. Спектакль не произвел на меня впечатления. Нет ни внезапного уныния, ни нахлынувшей грусти. Более того, я чувствую себя не хуже, чем перед началом пьесы. В театре было жарковато, и пирог тяжеловато лег в желудке; может, я уснул и пропустил ту часть, которая бы меня взволновала?
Наблюдаю за группками родителей, которые ждут с цветами. Это похоже на зал прилета в аэропорту: присутствует элемент соревнования — кто выйдет первым? Не уверен, что узнаю Зоуи в лицо, поэтому придется внимательно следить за другими физическими характеристиками.
Первая девочка бежит прямо к своим родителям и обнимает обоих; те неуклюже наклоняются в коротком, но теплом тройном объятии. Другие родители хорошо скрывают свое недовольство. Девчонка улыбается родителям. У нее знакомое лицо, но может, это потому, что я видел ее на сцене. Ее отец что-то произносит. Она смеется. У нее красная сумка с нарисованным роботом из комикса, показывающим знак «мир». На ней красно-серый свитер в полоску с V-образным вырезом, мешковатый и скрывающий фигуру, хотя бугорки грудей хорошо видны; и длинные, сильно расклешенные джинсы, создающие впечатление, что у нее нет ступней.
Пытаюсь вспомнить, как одевалась Зоуи: белая рубашка, галстук, начищенные туфли? Ничего не приходит в голову. Хочу вспомнить ее лицо, но перед глазами стоит лицо этой девчонки. Которое похоже на ванильное мороженое. Каждая щечка — шарик.
И тут я вспоминаю: у Зоуи была чудесная кожа. Я встаю и подхожу на несколько шагов поближе, делая вид, что читаю программку. Девчонка так увлечена родителями, что не замечает меня за отцовской спиной. Ее кожа бледна, как пастеризованное молоко, щеки слегка раскраснелись. Брюки довольно плотно облегают верхнюю часть бедер, но я не вижу, никаких признаков ожирения. Помню, мы шутили, что жиртрестка — единственная в мире жирная девка, у которой маленькие сиськи, а какой смысл быть жирной, если у тебя даже сисек нет?
— Оливер! — Девчонка обращается ко мне. Ее родители отступают в сторону, приглашая меня в свой треугольник. — Ты же Оливер, верно? Что ты здесь делаешь?
— Зоуи?
Ее мама и папа, кажется, довольны, что я знаю имя их дочери.
— Мам, пап, это Оливер, мы с ним вместе учились в Дервен Фавр.
Мама и папа одновременно поднимают брови и кивают в унисон.
— Не волнуйся, — Зоуи кладет руку на локоть отца, — он хорошо ко мне относился.
Ее отец смеется. У него вытянутое загорелое лицо, а линией подбородка впору открывать конверты. Перевожу взгляд на Зоуи. Кажется, ей нравится быть такой, какая она стала. Она явно сама подобрала наряд. Лицо веселое и полно оживления.
Раньше я утверждал, что меня трудно разозлить, но, кажется, это перестало быть правдой. Смотрю ей в лицо. На губах улыбка. Но я чувствую, как пространство вокруг меня чернеет от злобы. Как в тот раз, когда папин секатор для живой изгороди наткнулся на осиное гнездо. Зоуи должна была быть живым доказательством того, что жертва всегда остается жертвой и невозможно исправиться лишь своими силами. Несчастные люди играют в жизни особую роль — они должны помогать нам чувствовать себя лучше. Если эта тупая жирная гусеница смогла стать бабочкой, что это говорит обо мне? Мне суждено быть вечно брошенным; всех моих девчонок украдут парни с уродливой шеей. Я даже подумать о жирафах не могу — сразу выхожу из себя. Я ненавижу даже этих женщин из горных племен, которые надевают себе на шею бронзовые кольца и благодаря этому всегда попадают в документальные фильмы.
Мне хочется, чтобы толстуха снова стала толстухой. Я бы вставил воронку ей в глотку и залил бы в нее все еще теплый жир, скопившийся на противне под решеткой супергриля Чипса.
— Рада знакомству, Оливер, — приветливо говорит мама Зоуи. — Тебе так же грустно, как нам?
У матери Зоуи черные корни отросли на дюйм; остальные волосы белые, сухие и такие короткие, что даже за уши не убрать. Ее глаза хлорно-голубого цвета.
— Да, — отвечаю я, — я просто в депрессии.
— Представь, каково мне, — произносит Зоуи, закатив глаза. Она говорит притворно мученическим тоном, пытаясь вновь перетянуть внимание на себя. — Каждый день — дважды всех моих друзей хладнокровно застреливают из пулемета, — продолжает она. — Не слишком полезно для психики, скажу я тебе.
Ее папа гордо и громко смеется. Мне хочется врезать Зоуи прямо по яичникам.
— Значит, ты тоже участвуешь в этом, Оливер? — спрашивает ее отец.
Не надо винить меня в том, кем стала ваша дочь.
— Нет, просто пришел посмотреть, — отвечаю я. — Люблю историю.
— Вот видишь! — Зоуи высовывает язык и, склонив голову, показывает его родителям. — По крайней мере один человек пришел посмотреть пьесу, потому что она хорошая, а не из-за своих драгоценных детишек. — Она игриво обнимает меня сбоку, и ее груди прижимаются к моему плечу. Раньше такой груди у нее не было. — Спасибо, Оливер, — говорит Зоуи и отходит.
Я улыбаюсь и смотрю ей в глаза. Моя злоба перерастает в тошноту. Это просто тошнотворно. Она даже не помнит, кем была раньше. Не хочу даже знать, каково это.
— Пьеса тоже интересная, — возражает ее мать.
— Да, мы же не виноваты, что все время отвлекались на нашу талантливую дочурку, — добавляет отец.
Меня сейчас вырвет. Мать и отец Зоуи как парочка из телевизора. Я даже могу представить, как они занимаются сексом по-взрослому, без всяких выкрутасов.