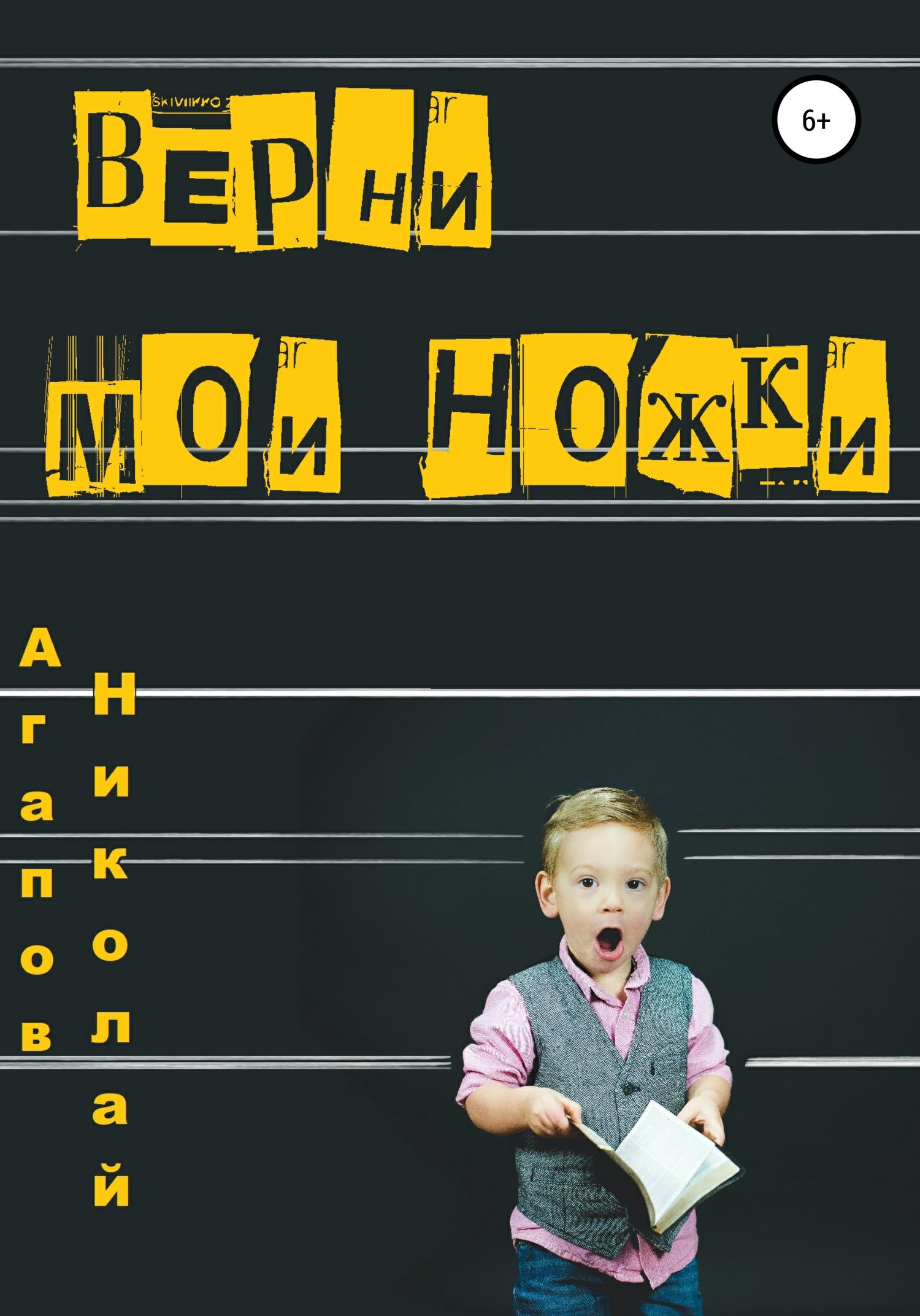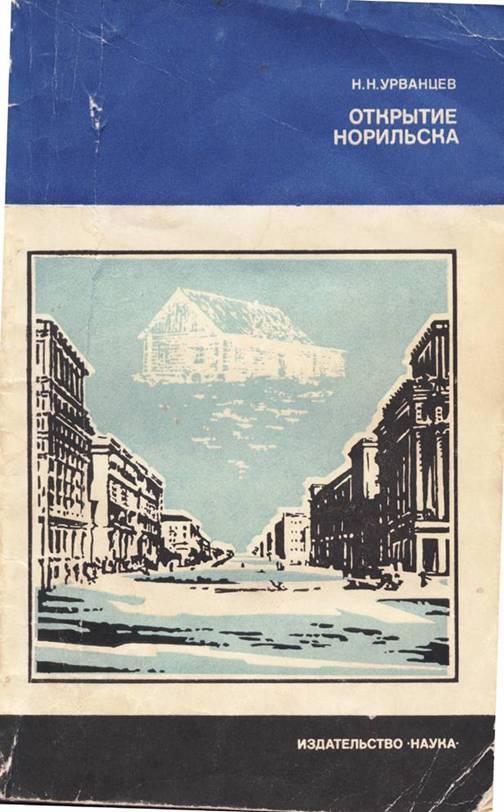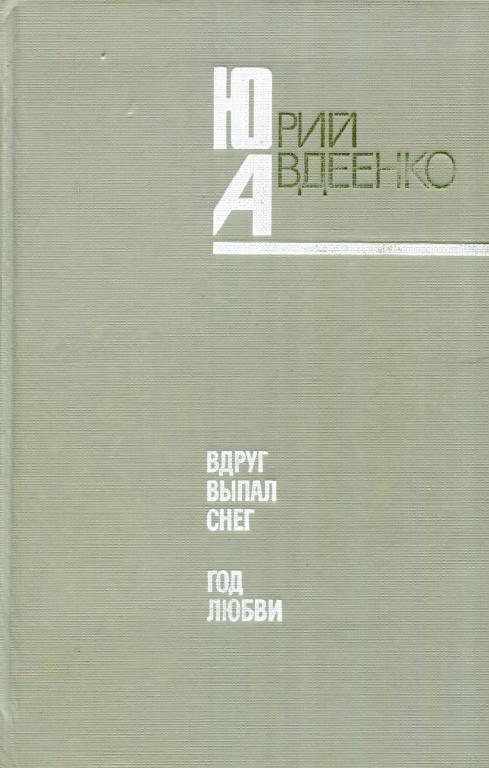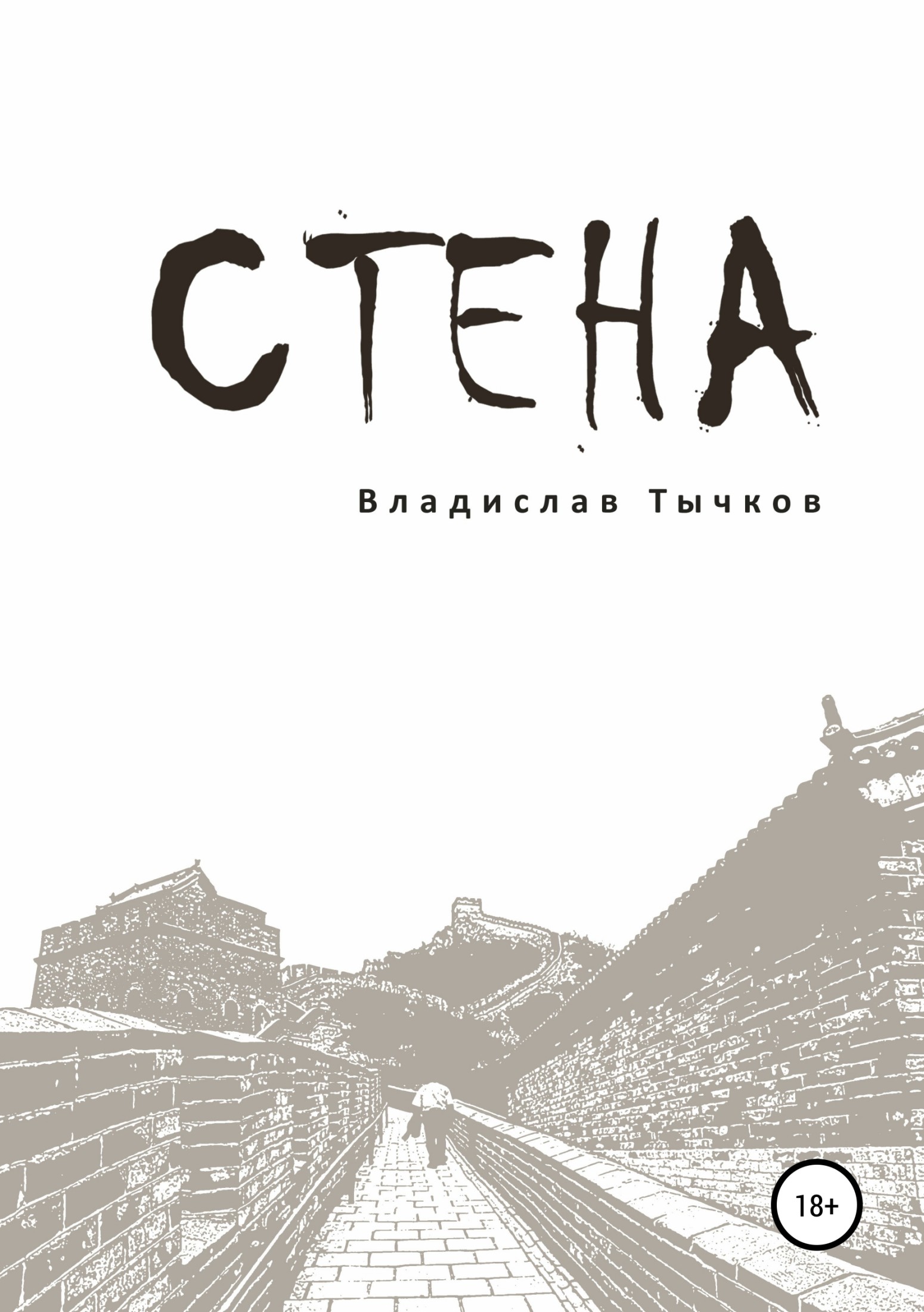обычаю протянутой от вершины к концам перекладины.
Иван Павлович всегда заставлял себя думать только о крестах, но это никогда ему не удавалось. И когда он чувствовал, что воспоминания прорываются независимо от его желания, садился на могилу, закрывал лицо ладонями и сидел так, пока прошлое само не ослабевало и не отпускало его.
...У того чу́ма.
— Хальмермя![10] — по-ненецки сказал Савельев.
Проводник-зырянин Костя застыл на нартах. В серых глазах ужас. Он хотел гнать упряжку прочь, хотя видел, что ветер дует с их стороны к чуму. Страх был слишком велик. Он хотел спасти оленей.
— Э, братец, так нельзя. Вдруг там живые? — сказал Савельев и хотел пойти к чуму один, но с ним вызвались все четверо, кроме Кости. Саженях в двадцати Савельев приказал им остаться. Вокруг чума лежало с полсотни издохших оленей. Смрад подкатывал, несмотря на ветер, относивший его в сторону. У входа, сунув головы под полог, сбившись в кучу, лежало несколько животных. Так бывало почти всегда: измученные болезнью олени словно просили помощи у человека. Они подползали к чуму, мордой отодвигали полог и так умирали. Кто мог им помочь, если в чуме оставались одни мертвецы.
Савельев знал это лучше своих помощников, совсем молодых ребят, студентов-ветеринаров. Все же он подошел совсем близко к чуму и громко спросил по-зырянски, по-хантыйски и по-ненецки: «Есть живые? Есть живые? Эй!» И хотя никто не ответил, Савельев длинным прутом отодвинул полог, заглянул в чум, крикнул еще раз, бросил прут и махнул рукой.
Вернулись к нартам. Саша Чикин налил в жестянку керосину и, пока Савельев мыл руки сулемой, подошел к чуму, плеснул на шкуры и поджег.
Проводник Костя отвернулся, забормотав молитву.
Только тронулись, как олени испуганно отпрянули в сторону: неподалеку валялся издохший волк.
Хальмер. Смерть. Эпидемия.
Вскоре после осмотра этого чума заболели четверо: Савельев, Саша Чикин, Кулешов и Кудрявцев. Там заразились, в другом ли месте, кто знает... Да и надо ли знать... Иван Павлович (тогда-то просто Ваня Рогов) вместе с Костей (теперешним Константином Кузьмичом) ухаживали за больными как могли. Сначала Савельев говорил, что делать, потом впал в беспамятство. И остальные метались в бреду.
Могилы вырыли на взгорке. Тела их, как приказал Савельев, засыпали хлорной известью и предали земле.
Никто из них в бога не верил, но когда через год Иван Павлович приехал сюда на практику, четыре больших креста уже стояли на могилах.
...Не надевая старой соломенной шляпы, Иван Павлович медленно сошел с холма, побрел по зарослям к реке. Иногда нога натыкалась на багульник, и одуряющий аромат вспыхивал, как костер. Птицы срывались с низких березок, светились редкие цветы, и морошка уже зажелтела яркими пятнами в зелени.
Рогов знал, что Константин Кузьмич где-то рядом. Он никогда не ходил к крестам вместе, но всегда оказывался неподалеку. Вот и сейчас он здесь, под обрывом у самой воды со своей рыболовной снастью.
Стоя на обрыве, Иван Павлович смотрит на друга. Темные мысли остаются за спиной, у крестов. Неожиданная радость приходит сама, неизвестно почему. Может, потому, что они еще живут на земле. Может, потому, что день обещает быть ясным и прохладным. Может, потому, что впереди поездка в тундру. А верней всего потому, что неподалеку стоит этот старый человек в резиновых сапогах, ватнике и треухе, с опущенными ушами.
В руках у него капроновая леска, протянутая к «кораблику» — дощечке, плывущей на ребре. Поводки с крючками, привязанные к леске, рассекают мелкие волны.
Иван Павлович сбегает по крутой тропке с обрыва, подходит к Константину Кузьмичу. Но тот не оборачивается. В молчанье медленно они бредут по берегу.
Быстрая вода не скрывает цветной гальки на дне. Лишь подальше, где крутятся крепкие витые струи, дно исчезает и вода обретает густой синий цвет. Под ногами лаковые камешки и вытянутые плиты красповатого гранита. Возле розовых валунов, за зеленой щетиной осоки — голубые зеркала маленьких озет.
Константин Кузьмич поднимает леску. Из воды со свистом вырываются поводки. Крючки пусты. Надо менять место.
— Павло́вич, потя́ни леску, — говорит Константин Кузьмич и сматывает ее на рогульку.
Войдя в воду, Иван Павлович потихоньку подтягивает «кораблик» к берегу.
Они бредут к галечному мысу, виднеющемуся ниже по течению. Словно по уговору, не вспоминают вслух прошлого, хотя каждый хорошо знает, о чем думает другой.
Мыс глубоко врезается в речное полотно — с него можно достать почти до середины реки. Здесь лучшее место для ловли хариуса. То, что Константин Кузьмич начал ловить рядом с крестами, говорит лишь о его сочувствии настроению друга.
На самом конце мыса Константин Кузьмич зашел по колено в реку, кинул дощечку. Она повихляла немного и вдруг ожила — выправилась, встала носом против течения, поплыла, разбрасывая фонтанчиками воду. Чуть заметным движением Константин Кузьмич направлял ее к середине реки. Вслед за ней из его рук одна за другой уходили в глубину серебряные капли блесен. Его сжатые губы слегка шевелились, узкое лицо, прорезанное морщинами, сосредоточенно, серые глаза видят только скользящую снасть.
Не прошло и минуты, он поднял руку с леской. Из воды выскочили блесны.
— Хоп!
На дальних крючках прыгают три стальных хариуса. Константин Кузьмич подтягивает их к берегу. «Кораблик» как живой — нетерпеливо режет волну, норовит уйти обратно. Константин Кузьмич ловко снимает рыб и отпускает снасть.
Рыбы бьются на камнях. Константин Кузьмич роется в кармане, протягивает Ивану Павловичу кусок толстой лески с костяной перекладиной на конце. Тот продевает леску рыбам под жабры, бросает в воду; хариусы рвутся уйти в глубину и долго не могут смириться с куканом.
— Начало есть, ко́нца не будеэт, — говорит Константин Кузьмич, и голос его вздрагивает от радости.
— Дай мне половить, — не утерпел Рогов.
— Се́йчас... Не торопись... Рыбы хватеэт. Сей год рыбе добрый. На вершинеэ реки много мошкиных куко́лок. Олешкам плохо будеэт, людя́м плохо. — Константин Кузьмич засмеялся. — А рыба́м хорошо будеэт — маленьким корма много...
Константин Кузьмич не мог отказать другу в просьбе, но и снасть отдавать не хотелось — он чувствовал, как сразу огрузли поводки, едва «кораблик» отошел к середине. Поэтому и решил отвлечь Ивана Павловича разговором, чтоб протянуть время и вытащить еще пару заметов. Ход был ловкий.