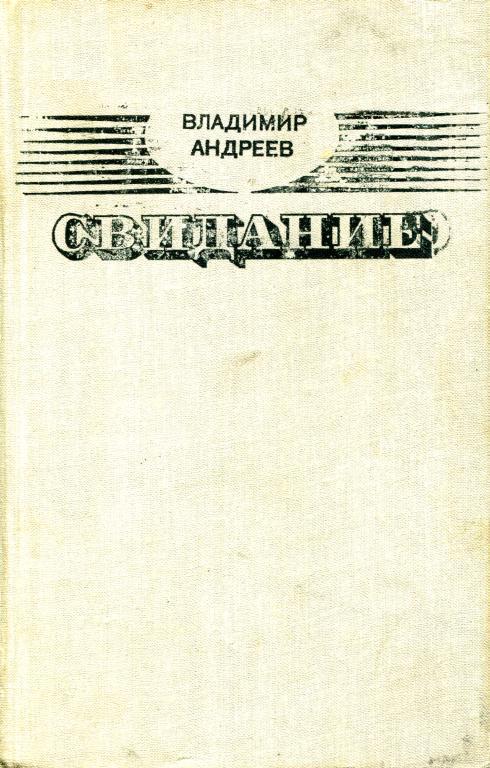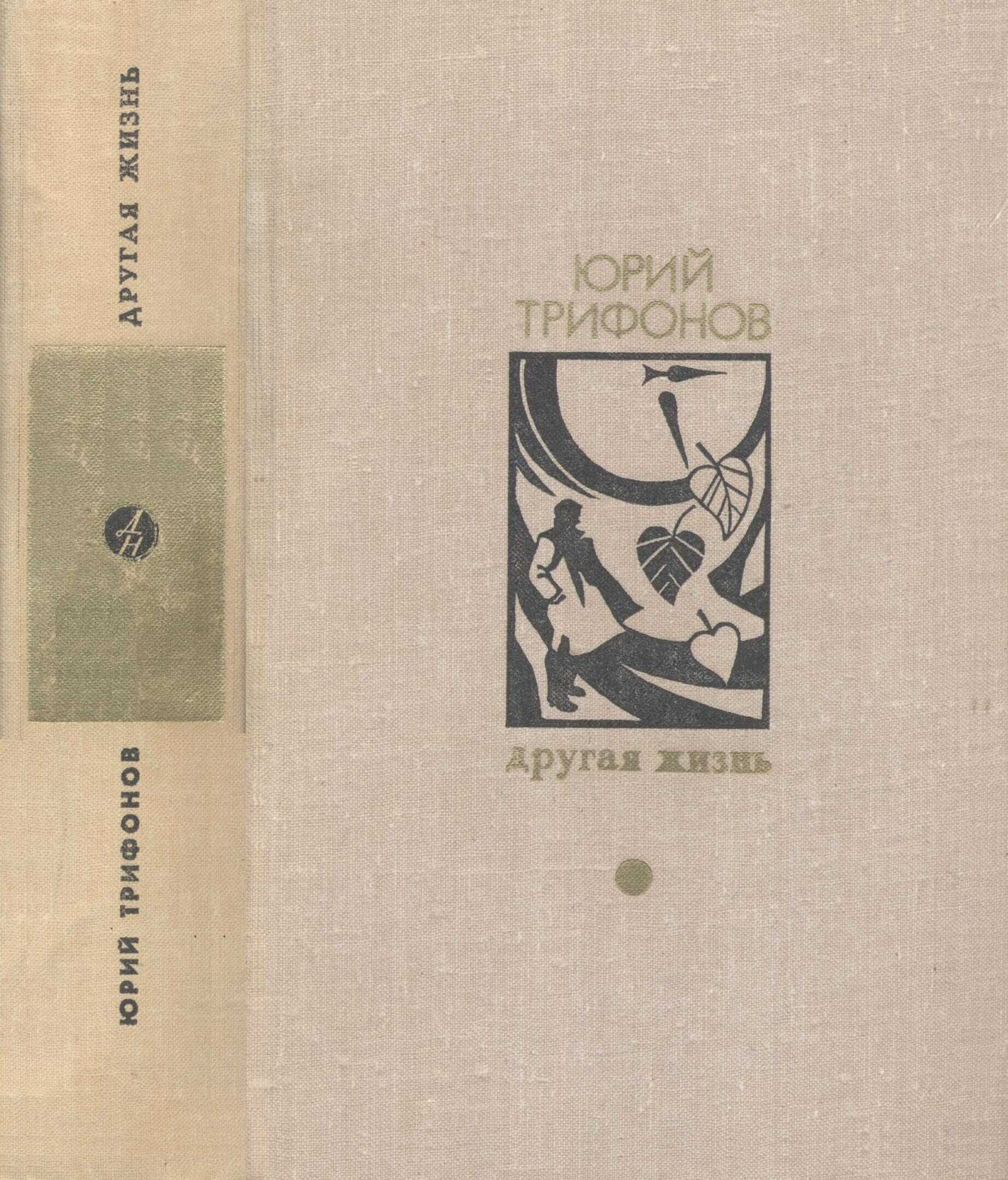хоть бы что?! Пропал бы уж совсем когда-нибудь: поплакала бы один раз да забыла. Так нет, каждый день беспокойся о нем!
Старик молчал, он уже согрелся, пятки стали горячими, как и кирпичи на лежанке, на лбу выступили капельки пота. Шарит рукой, ищет старые дырявые валенки. Натягивает их и так же молча спускается с печки. Пока он протирает сухой тряпкой ружье, старуха все ворчит и развешивает на просушку его одежду.
Наконец, он вешает ружье на стену, а сам в старых валенках, распущенной рубахе, полотняных кальсонах, оглаживая влажные волосы на голове и в бороде, садится к столу.
— Пропал, пропал… — как бы сам себе говорит он.
— Кто пропал? — насторожилась старуха.
— Кто, кто?.. Капкан пропал. Иль не там искал, куда ставил, иль унес кто…
— Ой, да что ты?! Таку дорогую вещь потерял! Да как же? Дак лучше бы искал!
— И так искал. Никто не взял, чай… Кому он нужен? Попался, наверно, какой-нибудь крупный зверь да и уволок… — размышлял дед, поглаживая и расчесывая корявыми, как грабли, пальцами бороду.
— Кто попал, говоришь?
— Слон! — отвечает старик в сердцах и берет ложку.
Она еще пуще сердится, но ставит на стол горячие щи, а уж потом опять за свое:
— Ходишь, трешь штаны, не напастись на тебя. Вот капкан потерял. Сколь раз говорила: не ходи! А на порох сколь тратишь?! Сатана!.. Что молчишь? Подстрелил хоть кого-нибудь? Накормил меня дичью? Нет ведь! Вот возьму твое ружье да сожгу в печке… Жри давай!
Старик хлебает горячие щи, обжигая губы, дует на ложку. Слова жены не трогают его: в одно ухо влетает, в другое вылетает. «Ну, циклопедия, — думает он, — не все еще слова выложила. И где она берет их столько?!»
— Недосоленые ведь! На, положь, — пододвигает к нему солонку. — Бестолковый какой: так и ест бессолое. — И уже спокойнее добавляет то ли про себя, то ли чтоб не сидеть молча: — Недосол — на с голе, пересол — на спине…
Старик привык к этой ругани. Она ему — вроде как аккумулятор для машины. Послушаешь, и жить охота. И усталость отойдет, и на душе полегчает… Ишь как ругается. Будто к его приходу целый мешок всяких слов накопила, а сейчас вытряхивает на голову. А опростает — и сама вздохнет легко, вроде как сделала какую-то хорошую работу.
— …да и мать-то произвела тебя на свет с болью, чтоб мне тоже маяться… — с надрывом, со слезой выговаривает старуха. — Вот умру когда-нибудь, вылупишь глаза-то окаянные… Иль сам умирай поскорей. Поплачу разок, а потом и думать о тебе перестану…
«Ну, кажись, все. Кончилась циклопедия, последнюю страничку перевернула», — думает старик.
Он выходит из-за стола, крутит цигарку и присаживается у печки, чтоб дым шел в трубу.
— Куда ляжешь? — спрашивает жена. Голос все еще сердитый, но уже с теплыми нотками.
— Туда, — показывает он на койку.
— Э-ко-ко-о… — почему-то тяжело вздыхает старуха и уходит на печь, теперь уже до утра.
А старику не сидится, маятно на душе.
«И куда мог запропаститься? — думает он с беспокойством. — Может, и верно какой-нибудь зверь уволок? Попал случайно — и уволок. Может, сам виноват — не там искал? Может, стоит он спокойненько на своем месте, меня дожидается? Да неуж я совсем из ума выжил: позабыл, куда капкан ставил?..»
2
На земле каждый по-своему живет и своей дорогой ходит. Волчица была в годах. Широколобая, холодноглазая, с мощной дымчато-серой грудью, пышным, как воротник, ожерелком, она была красива — не зря даже молодежь искала ее внимания и одобрения. Она выбрала в мужья себе Одноухого — самого сильного в стае, но злого и беспощадного. В свое время на охоте лось начисто снес ему копытом правое ухо, лысина мерзла, он плохо слышал и потому, наверное, зверел мгновенно, едва ощущал хоть малейшее непослушание сородичей. Волчица была верна ему, послушна и ласкова, однако стаю водила сама, и он подчинялся.
Гоняли ли лося, врезались ли в стадо колхозных оленей, режа направо и налево, Одноухий был всегда впереди, она лишь направляла его. И к добыче пускала первым, сама ложилась рядом, остальные — поодаль, и ждала, пока он насытится. Тогда уж и сама принималась за трапезу.
Стая кочевала на границе тундры и леса. Когда-то, лет десять назад, она пришла сюда с юга, побитая, поредевшая, унося ноги из людных мест. Волчица, как и Одноухий, родилась уже здесь, иных мест не знала, но почему-то иногда она вдруг останавливалась, принюхиваясь, и выла в сторону леса. Стая глядела на нее с недоумением, но тоже подвывала, и что-то давнее, забытое заставляло волков поджимать уши и ерошить шерсть на загривке.
Последнее время стаю преследовали несчастья. Как-то налетела вдруг свистящая и звенящая железная птица и стала плеваться огнем. Пока домчались до леса, до чапыжника, потеряли половину сородичей.
И тогда волчица пеняла: нужно бояться не только человека, но и ясного неба, и стала выводить стаю на охоту лишь в ненастные, дождливые и буранные дни.
Вслед за тем они выследили лося. Это был крупный, полный сил самец. Обычно волки остерегались подходить к ним в период брачного гона, но выбирать не приходилось: крупной добычи давно не было, и стая голодала.
Одноухий повел часть волков к сухому логу, в засаду. Остальные во главе с волчицей должны были загонять жертву. Но лось не побежал в панике, он вдруг встал, встал во всей своей нерастраченной силе, раздувая ноздри и копая копытами землю, выставил вперед острые рога. Попробуй возьми! Пританцовывая, как боксер, он крутился на бугре, сверкая бешеным глазом, будто вызывая на бой. И запах… Он сбивает с толку. Пахнет не потом и страхом, а желанием самца, яростью, жаждой крушить все вокруг.
Вот уже двое валяются с вывернутыми кишками, третий лежит с вдребезги разбитой копытом башкой… И волчица отступила. Она могла бы созвать всю стаю, измором взять лося. Но скольких бы они еще потеряли? К тому же она уважала безрассудную мощь мужского желания…
К началу нынешней зимы стая вновь набрала силу. Подросли щенки весеннего помета, окрепли двухлетки. Вступили в пору зрелости трех годовалые. В одну метельную ночь она повела их в тундру, к оленям.
Когда подобрались к стаду, метель окончилась, к тому же забеспокоились сторожевые псы. Нужно было уходить, но вот ведь мясо, перед глазами…
Железная птица налетела, как снег на голову. Она свистела в самые уши и методично бухала огнем. Стая, утопая в свежем снегу, вытянулась цепочкой почти на километр. Головная