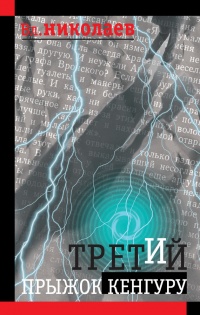Она улыбается той улыбкой, которой улыбается всегда, когда думает о детях.
– Я однажды сфотографировала малышей, всех троих. Не видела эту фотографию? Пол, малыш Барби и малыш Марии. На этом снимке они все сидят у твоего отца на коленях.
Да, я видела ту фотографию. На нем его униформа, воротничок, а волосы образуют черную геосферу вокруг его головы. Папа, открыв рот смотрит на малышей, облаченных в белоснежные костюмчики, и их лица куда краснее, чем после рождения. У них есть веская причина гневаться, их всех только что крестили. Я в тот день тоже была в белом платьице, и даже ничем его не запачкала.
Должно быть, в то время наш дом напоминал женскую коммуну. И, наверное, это было мило: все по-очереди мыли посуду, попеременно укачивали детей друг друга в закатных оттенках эстрогена, разлитого в воздухе. Хотя, скорее всего, Барби большую часть времени поедала сладости, закинув ноги на кухонный стол, а Мария призраком шаталась по ночным коридорам, то поднимая трубку, чтобы позвонить женатому мужчине, то снова кладя ее на рычаг. Мама сказала, что, когда мы переехали, мы не оставили Барби свой новый номер телефона.
– Была причина, – говорит она внезапно натянутым и высоким голосом, – почему мы не могли сказать ей, куда именно переезжаем. Но ее бабка каким-то образом все выяснила и однажды вечером позвонила нам страшно пьяная и давай повторять: «Вы ей не помогли, вы не помогли ей, вы сказали, что поможете, и не помогли!»
Как раз в этот момент мне звонит Джейсон и говорит, что только что увидел целых три экземпляра моей книги в книжном магазине в центре города. Он присылает снимок, на котором книги разложены красивым веером. Я показываю маме.
– Вы только посмотрите! – восклицает она, лоснясь от гордости и немного от острого соуса, и улыбка на ее лице – это та улыбка, которая всегда появляется, когда она думает о детях.
По дороге домой из «Орешка» она пытается сформулировать некое чувство касательного пролайф-движения.
– Эти люди так говорили… – она ненадолго замолкает. – Как будто говорили на каком-то своем языке. Со стороны казалось, это обычный английский язык, но они всегда подразумевали что-то секретное, что могли понять только члены группы.
– Политика «собачьего свистка» [49], – киваю я.
– Для этого есть специальное название?
Такая же реакция была и у меня, когда я впервые услышала эту формулировку. И по сей день, когда я узнаю, что для какого-то явления уже давно придумали название, чувствую себя так, будто первые семь лет жизни спала в лесу, в обнимку с косточкой.
– Я сказала ему, что больше никогда не возьму тебя в клинику, – говорит она, потому что именно так обычно и заканчиваются подобные разговоры. – Не знаю, где и что пошло не так, но я видела, как сильно ты была напугана.
– А сколько мне тогда было?
– О, да ты и сама еще была совсем малышкой, – удивленно говорит мама. – Тебе было три, может, четыре годика. Я привезла тебя туда в коляске.
Мама высаживает меня у дома и целует на прощание, а я обхожу дом и сажусь работать на зеленом заднем дворе, в буйстве зелени. До моего уха доносится далекий звук, напоминающий детский плач. Хотя в природе многие звуки напоминают детский плач.
Да, я выросла и вышла замуж, и за последние десять лет даже на миг не задумалась о детях. Не знаю, какая это справедливость – поэтического или иного толка. Иногда сестра вскользь советует мне попить специальные витамины или чай из листьев малины, но я не прислушиваюсь. Лозунги с плакатов крепко отпечатались у меня в памяти. Они били по тем же точкам, что и поэзия, и каждый являл собой понятный смысл и откровение, как тот миг, когда облака расходятся и ты видишь кусочек ясного неба. Тогда я думала, они говорят правду, потому что прекрасно понимала их. Но, взрослея, ты начинаешь понимать кое-что еще. Ты понимаешь это, когда в первый раз оказываешься в кабинете врача, с головы до ног полная особенной женской кровью, пораженная в самое нутро особенной женской болью. Какое-то новое откровение появляется на кончиках пальцев, отращивает ногти. Ты понимаешь это, когда в первый раз чувствуешь, что у тебя внутри что-то идет не так или, наоборот, удивительно так. Барби понесла, а значит в ее случае все шло просто прекрасно. Как говорят в Англии, она была плодовитой, как куст красной ягоды. Женское тело всегда стоит на окраине города, на границе цивилизации. Лишь тонкая накидка отделяет ее от дикой природы. Часть ее существа хорошо помнит, какова жизнь в лесах. Поэтому Ведьма, поэтому Шлюха, поэтому Несчастная и Нечистая. Любые попытки обуздать женское тело – заранее провальное дело, ведь эта стихия неуправляема. Барби – самая аккуратная, самая загорелая, самая блондинистая кукла в истории. В переводе с греческого Барби означает «чужая». И «непонятная».
17. Миссурийская готика
Раз в месяц мне снится, что я снова вернулась в тот огромный приходской дом, который мы называли особняком. Со мной все мои школьные друзья, и какой-то человек в маске убивает нас всех по очереди. В моем сознании этот особняк превращается в некую замкнутую бесконечность, в стенах которой собрались воедино все дома, в которых мне довелось пожить. Сотня детских комнат разворачиваются одна за другой, и сон обычно заканчивается тем, что я оказываюсь заперта в шкафу прихода, где мы жили, когда я была подростком, рядом с церковью «Богоматери милосердия», и не могу пошевелить ни единым мускулом. Моих друзей уже давно нет в живых, и я осталась наедине с ним, кем бы он ни был, чего бы ни хотел. А затем голова переполняется пузырящейся газировкой, тело устремляется вверх, и я просыпаюсь.
Чем дольше мы живем здесь, тем чаще мне снятся такие сны. Если на Джейсона безумие приходского дома давит, то со мной происходит нечто не менее странное – меня он как будто испаряет. Когда я начинаю казаться себе бесцветной и исчезающей, персонажем, который играет второстепенную роль в своей собственной жизни и просто принимает как данность все, что происходит, значит я снова растворяюсь – как в юности. Это чувство такое уничтожающее, что иногда кажется – достаточно всего шага, легкого толчка, чтобы я обратилась в старую веру, чтобы я опять поверила в это. Во все это.
– Не знаю, как ты вообще это выдерживаешь, – бормочет Джейсон на следующее утро после очередного кошмара, сидя над омлетом из яичного белка под названием «Триатлет». – Ты даже фильмы не смотришь, где ругаются родители. А от звука скрипок тебя вообще подбрасывает.
– Обычно скрипки играют в той сцене, где девушка бежит по лесу навстречу верной смерти, – говорю я, наливая сливки в кофе, который помогает мне оставаться нервной. – Ты сам один раз перепугался до смерти, когда посмотрел вниз, увидел свою тень и решил, что это маленький ребенок обнимает твою ногу.