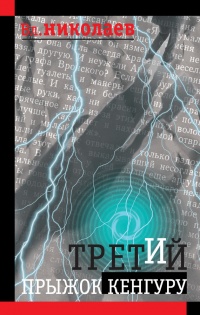Женщины, сидящие за чаем вокруг кухонных столов, придумывали наихудшие сценарии зачатия и в конце говорили альтовым тоном великомучениц: «Ну, я бы оставила ребенка». Вечно одно и то же, слова «Я бы оставила ребенка» и вид человека, объятого пламенем, запрокинувшего голову и сделавшего героический выбор. Но ратовали они за будущее, которое исключало выбор как таковой. Такой страны совсем не они хотели.
Когда во время этих разговоров входили мужчины, вид у них делался встревоженный, как будто они подозревали, что мы пытаемся принять какое-то важное решение в их отсутствие. А когда они выходили, мы продолжали. А что, если? Что, если?
– Что, если бы это был твой дедушка?
– А если бы тебе было всего двенадцать?
– Что, если бы голова ребенка была в два раза больше нормального размера? Что, если бы с ним было что-нибудь не так?
– Ну, я бы оставила ребенка.
И даже на вопрос: «А если бы ты знала, что это тебя убьет?» следовал ответ «Я бы умерла!» А мы, дети, оставшиеся бы без матери, смотрели на них из угла комнаты.
Я бы умерла. Я часто повторяю про себя хорошие предложения, и это было одно из них. Оно хватает тебя за самую мякотку и вонзает зубы. «Ну и дикие же эти дамочки», – удивлялась я. Видимо, с рождением ребенка цивилизация покидает тело женщины, все города и правительства аккуратно изгоняются, и она возвращается в дикие леса. Роды превращают ее в нечто с двадцатью когтями, и, если бы пришлось, она бы не задумываясь вонзила их все в себя.
Но это еще не конец. Конец наступил, когда к нам пришла женщина по имени Барби. Барби была беременна и хотела сделать аборт, но мой отец отговорил ее от этого. Она была одинока и бедна и думала, что не сможет позаботиться о ребенке. «Мы могли бы помочь», – должно быть именно это сказал ей отец. Мы могли бы помочь ей пройти через сложный период. Она жила с нами на протяжении всего своего благодатного состояния, разговаривая по нашему бежевому телефону, накручивая его шнур на палец. Я почему-то всегда видела ее лишь со спины, ее волосы падали между лопаток, будто ее красота просто не знала, что с собой делать, и спрыгнула с ее плеч, как с обрыва. Ее красота замерла в свободном падении, а Барби прижимала телефон к уху и говорила. Однажды мама попросила ее посидеть со мной и Кристиной. Барби окинула нас долгим оценивающим взглядом, пожала плечами и, оставив нас одних, отправилась в магазин на углу, купить сладостей. Ей было девятнадцать лет. Она оставалась с нами, пока не стала огромной, как шар, а потом у нее родился ребенок, и больше мы о ней никогда не слышали.
Что случилось с Барби? Мне сказали, что мы помогли ей и спасли ее от чудовищного поступка, который она на самом деле и не хотела совершать, от стыда, вины и страшного вакуума, который вытащил бы из нее ребенка.
– Но где она сейчас? – спросила я как-то раз намного позже, когда вся эта история начала казаться странной, незавершенной, слепленной тяп-ляп. – Когда кто-нибудь разговаривал с ней в последний раз? – По тому самому бежевому телефону, чей шнур можно накручивать на палец. Как она назвала ребенка? Никто, похоже, не знал. После того, как она исчезла, мы переехали в новый приходской дом, такой огромный, что мы все называли его особняком, и мне все время казалось, что Барби заперта в одной из его бесчисленных комнат, куда мы никогда не заходили. Меня не покидала мысль, что однажды я открою дверь и увижу ее на пороге. Но куда хуже, когда тебя преследует настоящий живой человек с ребенком на руках.
Я помню это так. Но я знаю, скорее всего, я напутала какие-то детали, я ведь всегда путаю детали, или, наоборот, подробности запомнила верно, а все остальное нет. Я набираюсь смелости и спрашиваю об этом маму. После долгожданного рукоположения семинариста мы сидим в забегаловке под названием «Орешек», одетые в платья, подходящие для посещения церкви, и анекдотично едим куриные крылышки. Я делала заметки на протяжении всей церемонии и сейчас хочу записать еще кое-что. Я в таком проницательном и продуктивном настроении, когда все вокруг напоминает мне собаку, которая поскуливает и умоляет о внимании. Я спрашиваю:
– У Барби были длинные волосы? Когда я пытаюсь ее вспомнить, вижу только ее спину. Я сижу за кухонным столом, а она разговаривает по телефону.
Мама кивает.
– Длинные светлые волосы. Она была очень красивая и правда похожа на Барби. Но она была бродячей кошкой, самой настоящей, ездила по выходным в город и снимала мужчин.
Она разглядывает бар и, чуть сузив глаза, смотрит на завсегдатая, развалившегося в углу в компании пустого пивного графина.
– Она бы и в таком месте себе кавалера нашла, ей было все равно.
– Как папа ее нашел? Он же не поймал ее по дороге в клинику, не так ли?
Я волнуюсь, что он мог буквально схватить ее за руку и не дать войти в двери, хотя и знаю, что такой поступок не в его стиле.
– О, все в нашем Движении знали о Барби, – она понижает голос, словно говорит о покойнике. – Барби была рецидивисткой.
Я повторяю про себя: рецидивисткой. Так говорят в полицейском участке, когда надевают на кого-то наручники. Мама приводит в порядок куриные косточки у себя на тарелке и запивает водой.
«Бродячая кошка и рецидивистка», – думаю я.
– Это был бы не первый ее аборт. А третий или четвертый. Живые дети у нее тоже были.
Где же они были? Где были остальные члены ее семьи? Почему именно мы стали ее убежищем, да и были ли мы убежищем?
– А с кем она всегда разговаривала по телефону?
– Обычно с бабушкой. Ее бабуля была алкоголичкой и часто звонила нам по ночам, болтая бессмысленную ерунду.
Я хочу спросить ее о том, где же была мать самой Барби, но забываю. Я хочу спросить, как звали ее ребенка, но забываю об этом тоже. Может, мама не знает или давно забыла. Когда мы говорим об этом, становимся сами на себя не похожи, и наш разговор приобретает форму мягкого допроса. На стене у нее за спиной висит плакат с изображением большеголового инопланетянина с черными глазами, и он пристально смотрит на меня.
– Ее малыш тоже жил с нами несколько месяцев, сразу после того, как родился.
Об этом я не знала, и теперь испытываю страстное желание возместить бедняжке моральный ущерб. Надеюсь, после этого он стал одним из тех добрых гениев, которые лишь изредка рождаются на нашей земле. И слышал в своей жизни «нет» только в тех случаях, когда это было ему пользу.
– Барби была не единственной. В то же время с нами жила еще одна женщина. Помнишь Марию?
Как только она произносит это имя, у меня перед глазами всплывает лицо: круглое, румяное, склонившееся над дочерью, чью головку украшали шелковистые темные волосы, похожие на обезьянью шерстку. Та женщина забеременела от какого-то лютеранского священника, тот хотел, чтобы она сделала аборт, и всячески на нее давил, вот она и сбежала к нам под кров.
– Мы действительно помогли ей, – повторяет мама. – Мы и правда сделали доброе дело.