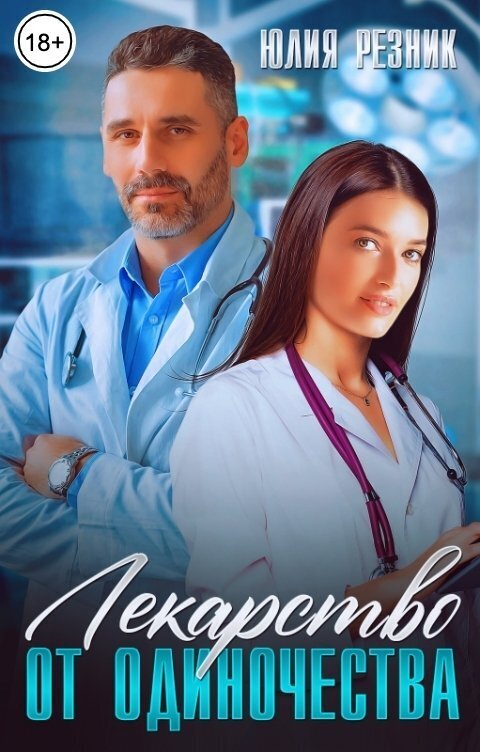эта… учительница первая моя. В пединституте учится. В садике нянечкой подрабатывает. Дома мама больная, брат младший. Жрать нечего. Одета по-сиротски. А сама… — он замолчал.
Платон видел, что у него сбилось дыхание, а в кавказских, всегда влажных глазах явно заблестели слезы.
— Светлая такая. И не поймешь: то ли слишком хорошая, то ли на всю голову прибабахнутая. Ну я ее на свидание пригласил. В кабак повел. Там на весь их Зажопинск один приличный кабак был. Посидели, туда-сюда, ручки ей поцеловал, домой везу. Такие ж сразу не дают. А мне вот прям засвербило! Она и говорит: «Сладкого хочу. Пойдем ко мне чай пить. У меня такие вкусняшки есть!». Вот скажи мне, Платон, когда ты слышишь слово «вкусняшки», ты что себе представляешь?
— Ну шоколад, торт, «Наполеон» особенно, домашний, — Платон мечтательно зажмурился.
— Шмоколад, ага. И Жозефина голая на Наполеоне, — хмыкнул Мамикон. — Ну поднялись к ней. Там мама за столом сидит, что-то шьет. А на столе скатерть крючком вязаная. Мебель такая, что аж плачет: «Унесите меня на свалку». И красавица моя на стол ставит сладенькое: печенье самое дешевое, варенье домашнее засахаренное и батончик соевый, адын, совсэм адын. Были такие когда-то. Шоколад тоже был. Но дорогой. Ей не по карману. Она этот батончик взяла, на три части разрезала. Одну часть мне дала. Вторую себе, третью — маме. Ну посмотрел я на это все, встал и поехал в киоск. Там прямо ящик взял и давай туда кидать печенье импортное двухслойное, «Нутеллу». Ты не смейся, Платон. Знаешь, каким крутым лакомством тогда «Нутелла» была? Она же только появилась. Мы все окосели: жидкий шоколад в банке, еще и с орехами. Это в стране, где был только один вид шоколадных вафель: «Артек». И тот большой дефицит. В Москве его кушали, а в провинции о нем только слушали. Короче, я шоколад в эту коробку горстями прямо кидал. «Марс»-шмарс-фигарс. Приезжаю к ней, говорю: «Вот, это сладкое». И торт еще шоколадный привез. Огромный такой. Они смотрят на это все круглыми глазами. А я ей и говорю: «Выходи за меня замуж. Вся жизнь наша такая сладкая будет». А она взяла и согласилась, — он замолчал.
— И? — спросил Платон.
— Ну я ж говорю: дурной был, молодой. Думал, что все сразу могу скушать. Уехал в Москву по делам. Оставил ее одну. Думал: куда денется? Я ж ей сладкое коробками. В Москву перевезу. Маму вылечу. Будет она меня ждать, как прекрасного принца. Через месяц приезжаю, а возле нее уже какой-то хмырь крутится. Школьный учитель. Представляешь? Я ей говорю: «Да ты чего? У него зарплата вся, как один мой ужин в ресторане». А она мне: «Не в деньгах счастье. Он душевный. Меня не нужно покупать, Мамикон. Меня нужно любить». То есть, понимаешь, Платон-джан? Чихать она хотела на мои бабки! Я потом всех женщин с ней сравнивал. И ни одна, слышишь? Ни одна с ней сравниться не могла.
— И Надя тебе напоминает ее? — тихо спросил Платон.
Мамикон кивнул и продолжил:
— Надя…она настоящая. Давно таких не видел. Думал, что и нет их уже. Вымерли, как динозавры. А она где-то там сохранилась. Как выжила — не знаю. Откуда только взялась?
— Из пепла — подумал Платон. — Она не серая белка. Она — сгоревший Феникс, который возрождается из пепла. Каждый день сгорает и рождается заново. Ты, Мамикон, видишь ее в пепле, а я в ярком пламени.
— Она не будет с тобой, Мамикон, — произнёс Платон.
— Как тебя задело, а? Запал, залип, умер, воскрес и снова умер, — рассмеялся Мамикон. — А ты ведь ее любишь, Платон.
— Она мне нужна для дела. Она — моя муза, — возразил Платон, упрямо поджав губы.
— Адель тоже была твоей музой. Ты, мальчик, себя обманываешь. Не умеешь ты любить музу отдельно от женщины. Тебе и то, и другое подавай. А я человек простой. Мне рядом нужна вот такая серая белка. Чтобы в дупле сидела и ждала меня. Когда ждут, мужик может горы свернуть.
— А ты несчастный, да? Тебя, Мамик, никто не ждет? — поддел его Платон.
— А что ты знаешь обо мне? — горько усмехнулся Мамикон. — Да, женщин люблю. Да, бабки люблю. А кто не любит? Может, мне тоже муза нужна.
— Бабло творчески стричь? — сухо осведомился Платон.
— И бабло тоже. Ты, Платон, руками рисуешь на бумаге, а я кровью на сердце. Может, я тоже там Надю давно нарисовал? — Мамикон похлопал себя по груди.
Платон встал, положил руки в карманы и задумчиво прошелся пару раз по мастерской. Сел на кушетку и сказал:
— Давай заключим сделку, Мамик. Ты отступаешься от Нади до торгов в Венеции. Не подходишь к ней, не звонишь, никуда не тащишь. Не устраиваешь армянское «Поле чудес» с суперпризами. А после торгов делай, что хочешь. Если она выберет тебя — значит, так тому и быть. А если меня, тогда не обижайся, — он подошел к Мамикону и протянул ему руку.
— Идет, — кивнул Мамикон и пожал ему руку. — Ладно, засиделся я с тобой. Дела не ждут. Да и племянники мои, наверное, для снеговика уже весь снег в округе загребли. Наш дорогой гидрометцентр инфаркт получит. Они снег обещали. А армяне уже и снег из России вывезли. Не провожай. Дорогу найду, дверь захлопну.
Платон сел в кресло и улыбнулся. Вот ты и попался в ловушку. Черта с два ты получишь Надю. Ни до аукциона, ни после него. Не факт, что она согласится быть с ним, с Платоном. Но и с тобой, Мамик, она не будет точно.
Надя
Мы вернулись в Москву вечером. Уставший Сережа сразу пошел спать. Я насыпала в ванну большую горсть морской соли и долго лежала в горячей воде. Казалось, липкие взгляды Мамикона намертво приклеились к моей коже. И очень хотелось вытравить их морской солью. Спала плохо. Скверное предчувствие скребло по сердцу костистой лапой. И оно меня не обмануло.
Дима вернулся рано утром. Я как раз забылась тяжёлым сном. Он сел на кровать, разбудил меня и спокойно сказал:
— Надюха, нужно поговорить.
— Сейчас, только умоюсь, — мне нужно было выиграть время.
Интуиция шептала, что разговор будет ужасным. Я наскоро умылась, заварила себе растворимый кофе, сыпанула туда аж три ложки сахара, чтобы успокоиться и проснуться. Наспех сделала несколько глотков. На негнущихся ногах вернулась в спальню. Села на кровать.
— Надюш, послушай, — Дима погладил меня по волосам и положил руку на колено. — У нас с тобой в последнее время малость наладилось после всех тёрок,