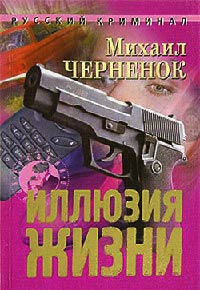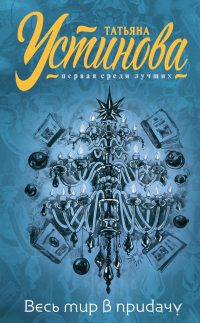Вы говорите о свободе автора романа. Знай он слишком много фактов, это могло бы помешать его воображению. Но ведь читатель довольно основательно знаком с этими фактами. По крайней мере, с наиболее важными из них. Всю вашу книгу читают, заранее зная развязку: учитель исчезнет.
Это так. По-моему, писатель может использовать и это. Речь идет о воображении, о том, как писатель заполняет белые пятна: так или этак могло бы произойти? Реальные, всем известные факты, должен я сказать, служат всего лишь ориентирами, в промежутке между которыми разыгрывается рассказ. Тому есть множество примеров: если пишешь о еврейской семье в Германии в 1938 году, то все уже знают, что что-то случится, что над персонажами уже нависла тень мрачного будущего. В наши дни многие писатели – в первую очередь американские – начинают свой рассказ утром 11 сентября. Или за неделю до него, за день, за полгода. Такой рассказ читаешь по-другому. Словно на протяжении всей книги ждешь того мгновения, когда первый самолет врежется в Южную башню. Так и я начал «Расплату». Учитель, юноша и девушка. Средняя школа. Загородный домик в снегу. Ингредиенты лежат на кухонном столе. Осталось приготовить ужин.
С той только разницей, что, наверное, все примерно знают, когда началась Вторая мировая война. Так же, как все знают – теперь, задним числом, – что и первый самолет, и второй врезались в башни-близнецы не случайно. А в «Расплате» вы непринужденно фантазируете о том, что произошло именно в том загородном домике. С помощью того, что вы называете своим воображением, вы взваливаете на подозреваемых предположительно совершенное ими убийство.
Мне сейчас пришло в голову кое-что другое. Как раз потому, что мы заговорили об 11 сентября. Была четверть часа – наивная вечность – между первым и вторым самолетом, когда все очевидцы думали, что произошел ужасный несчастный случай. Только после второго самолета до них дошло. Так и слышишь, что они кричат «Oh, my God!»[13]. Но мне как писателю гораздо интереснее эти минуты между первым и вторым ударом. Вера в несчастный случай. В то, что здесь нет злого умысла. Теперь мы все смотрим иначе. Теперь мы смотрим на изображения первого самолета и уже все знаем. Никакого несчастного случая. Он когда-то был, но навсегда исчез. Задача писателя в том, чтобы вернуть эту наивную веру. Чтобы дать нам снова пережить те четверть часа. Сейчас мы иногда еще видим башни-близнецы в фильмах или сериалах, снятых до 11 сентября 2001 года, и тогда, даже если не заметили этого по одежде и машинам, сразу понимаем, что фильм довольно старый. Но мне эти башни в кинофильмах напоминают об архивных изображениях немецких городов. Немецкий город в 1938 году. Видишь трамваи, переполненные террасы кафе и ресторанов, матери везут детские коляски, мужчины в парке играют в шахматы – и ты знаешь: все это рухнет. Скоро этого не станет.
Точно так же, этими же глазами, я часто смотрел и на классную фотографию над своим письменным столом. Простая классная фотография. Их тысячи, сотни тысяч, таких классных фотографий. Они все разные – в том смысле, что на каждой из них другие люди, – и все-таки все они похожи друг на друга. Сходства больше, чем различий. Учитель или учительница позирует со своими учениками перед школьным фотографом. По одежде и прическам обычно видно, в какие годы сделано фото. Все позируют, все смотрят в объектив, за исключением, возможно, того единственного, кто не хочет быть вместе со всеми, вечного упрямца, который предпочел бы оставить школьную скамью не завтра, а уже сегодня; зачастую есть и один-два хохмача, высунувшие язык или изобразившие пальцами рожки над головой одноклассника, но даже в этих исключениях все школьные фотографии похожи. Только с течением лет эти снимки иногда приобретают значение. Тот мальчик с бледным лицом и сальными волосами теперь знаменитый писатель, та круглощекая девочка с косичками ведет восьмичасовой выпуск новостей на телевидении, тот красивый мальчик с противосолнечными очками на макушке сделал молниеносную карьеру в преступном мире и несколько лет назад был застрелен на парковке отеля «Хилтон». И конечно, есть классные фотографии, исполненные смысла, – фотографии классов, из которых больше половины учеников не пережили войну. Но и на этих фотографиях преобладает невинность. Вера в будущее. Так я смотрел каждое утро, прежде чем начать писать, на фотографию 5 «А» класса лицея имени Спинозы.
Есть такая телепрограмма – она называется «Одноклассники», – которой еще не существовало, когда я начал писать книгу, но позднее она часто приходила мне на ум. Собрать бы весь этот класс вместе, чтобы каждый из них рассказал свою версию того учебного года. Они все есть на фотографии. Конечно, в первую очередь Герман, Лаура и учитель, господин Ландзаат; разумеется, я изменил все имена, но Ландзаат – все равно неправдоподобное имя для книги, оно звучит несколько надуманно, недостоверно. Всегда первым делом меняешь имена; затем следуют факты – по крайней мере, те из них, что известны. Но вернемся к фотографии: я всегда смотрел сначала на главных персонажей, потом на второстепенных, прочих членов их дружеской компании. Давид, Лодевейк, Михаэл, Рон. Одному за другим я смотрел им в глаза и пытался придумать, что они думали, что они знали, – конечно, только позднее; эта классная фотография сделана в тот промежуток невинности, промежуток между первым и вторым самолетом, вскоре после летних каникул. Я, конечно, выяснял, когда обычно делают такие классные фотографии. Это было в самом начале учебного года: после тех летних каникул, когда они все вместе уже побывали в загородном доме в Терхофстеде, но все-таки тогда, когда у трех главных персонажей еще ничего не было друг с другом. У Лауры с господином Ландзаатом все началось в школьной поездке в конце сентября, у Германа с Лаурой – во время осенних каникул, в октябре. В декабре, на второй день рождественских праздников, господин Ландзаат посетил Лауру и Германа в загородном домике в Терхофстеде и исчез. На фотографии всего этого еще не видно. Никаких признаков: никто не переглядывается, никаких загадочных взглядов, все смотрят в камеру школьного фотографа – большинство серьезно, кто-то улыбается. Многие мальчики стоят, держа руки в карманах: с одной стороны, они хотят выразить школьному фотографу свое безразличие, безразличие к тому факту, что класс фотографируется, с другой стороны, они, наверное, хотят получиться хорошо. Классная фотография – совсем не то, что относится к одному индивидууму или к нескольким индивидуумам, как фотография на паспорт или каникулярные снимки. Фотографию на паспорт можно выбросить и сниматься заново, пока она не понравится, точнее сказать, пока она не будет годиться. Каникулярные снимки, которые не очень льстят, тоже можно потихоньку ликвидировать или в крайнем случае не вставлять в альбом; их убирают в коробку, откуда не достают по многу лет. «Ой нет, убери! Я там получился отвратительно!» – и мы стараемся вырвать отвергнутый снимок из рук того, с кем сидим на диване и роемся в фотографиях, а потом этот снимок опять исчезает на долгие годы. Другое дело – классные фотографии. Мы не можем себе позволить выглядеть на них плохо, потому что совсем скоро, через несколько недель, это увидят все. Отсюда эти серьезные лица, судорожные позы, смертельный страх получиться с глупой, смехотворной физиономией. Такой снимок не спрятать, целый класс будет держать его в руках. «Смотри, какая рожа у Ханса, ему точно надо в сортир!»; «Какие у Ивонны зубы! Как жаль»; «Тео, ты только что вымыл голову? Никогда больше так не делай». Уносишь классную фотографию домой; от родителей ее еще можно утаить, но родители, скорее всего, и не скажут, что ты вышел на ней уродом, – любовь делает их близорукими. Больше всего хотелось бы уничтожить этот снимок, разорвать его на мелкие клочки, а еще лучше – сжечь, но ты знаешь, что в этом нет никакого смысла. У тебя двадцать восемь одноклассников, останется двадцать восемь копий твоей безобразной рожи, и это уже навсегда.