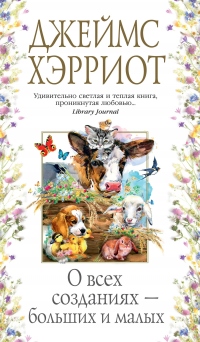для отдыха образованных белых людей. До того, как под этим стало подразумеваться нечто неправильное, оставалось еще двадцать лет. Острым, насущным вопросом для их кафе была проблема современности, быстроты обслуживания, разнообразия и приспособляемости.
К востоку от Авеню Б был книжный магазин «Ни/ни». С большой площадкой для выступлений. Там вообще было много места, поскольку даже книжные ряды пустовали: продавались исключительно книги самиздата, отпечатанные вручную буклеты и комиксы по комиссионному договору. По вечерам там было очень темно, с трудом можно было различить текст, и множество желающих, у большей части которых совершенно отсутствовал талант, играли в подсобке свою музыку ни для кого. Джордж познакомился с парой, открывшей магазин. Живые, худые. Женщина была француженкой, носила колготки в сетку и ультрафиолетовые туфли на высоком каблуке. Джордж привел туда Берка, осмотреться. Вышло так, что в тот вечер плохой музыки не было: читал поэт, и читал хорошо, – Джордж уже видел его раньше в ABC No Rio. Читая последнее стихотворение, сонет, он поджег целую картонку спичек, поднял ее над головой и держал так, пока не отзвучали последние строки, а потом уронил на пол: погасли спички, угасли звуки. Джордж не мог не отметить, что дощатый пол был изношен, местами пробит, вокруг дыр стояли стулья, дыры вели в черную бездну, намекая, что в любой момент можно было провалиться в царство тьмы и крыс.
– Думаю, здесь стоит открыть кафе, – сказал Джордж. – Тут клево.
– Скукотища тут, – ответил Берк. – Что тут такого, чего нет у нас, на Авеню А? Проходимость меньше? Света еще меньше?
Джордж осмотрелся.
– Чулки в сетку?
– Ближе к сути, ближе к сути. Чулки и у нас есть. Не то чтоб нам не хватало чулок в сетку.
– Они не часть нашего наследия, – возразил Джордж. Он понял, чего ему хотелось: чтобы их сеть кафе была авангардной.
– Этот книжный авангардный, потому что здесь книг нет, – сказал Берк. – Кафе нелегко сделать по-настоящему авангардным, Джорджи. Придется отказаться от продажи кофе.
Если Берк говорил Джорджи, это значило, что он в приподнятом настроении. А настроение у него поднималось, если он кому-то отказывал.
Марина и Джордж ждали ребенка. Они сняли квартиру в аптауне, Верхнем Вест-Сайде на 105-й улице – Марина хотела что-нибудь просторное, с высокими потолками, – а роды должны были состояться в больнице Святого Луки, на восемь кварталов к северу. Марина была невысокой, скорее компактной, плотно сложенной, а во время беременности разрослась до невероятных размеров. Когда до родов оставались считаные недели, в середине и конце декабря, у нее появились признаки токсемии, преэклампсии, гипергликемии. It was coming on Christmas they were cutting down trees…[105] Акушер-гинеколог, что вела Марину, на две недели собиралась улететь на Карибы, так что за неделю до Рождества, в субботу, ее поместили в палату для рожениц, где резиденты и медсестры провели остаток субботы и воскресенья в попытках стимулировать родовую деятельность; но только днем, ночью их отпускали домой, и два дня подряд по девять часов Марина лежала на койке под капельницей питоцина. Примерно каждые полчаса медсестра регулировала скорость введения препарата. Каждые два часа меняли мочеприемник.
– Прямо как пытки «Моссада» для ребят из ООП[106], – вздохнула Марина спустя полдня жестоких непродуктивных схваток.
– В Вашингтоне среди своих коллег-гэбистов ты бы так не сказала, – заметил Джордж.
– Скрытность – это часть дипломатической службы, – сказала Марина.
В шесть вечера их отпустили, шейка матки была закрыта надежнее, чем ювелирный магазин в аптауне; утром они приковыляли обратно, как смертники, добровольно идущие на собственную казнь. Джордж отпросился из кофейни, чтобы побыть с ней в палате в темно-бежевых тонах. Такие тона были только в больницах в 50, 60 и 70-х: чуть красного, чуть желтого, а в итоге все одно – как ниггер. Комната знавала лучшие времена. Вдруг ему в голову пришло открыть жалюзи: захотелось впустить в комнату молочно-белого зимнего света. Стоило раз потянуть, и вся невероятная конструкция, включая верхнюю часть за фальшстеной над шестифутовым окном, обрушилась, взметнув облако черной сажи, скопившейся от выхлопов грузовиков на стене, обращенной к Амстердам-стрит за десятки лет. Жалюзи грохнулись вниз, все, что было на подоконнике, отправилось вслед за ними, разбилось, взорвалось. Облако сажи, словно ядерный гриб, осело на его лицо, попало в рот, опустилось на одежду, волосы, окутав его целиком, размазавшись меж бровей, как у Эла Джолсона[107], гримировавшегося перед выступлением. На грохот сбежался медперсонал со всех углов гинекологического отделения.
– Господи, да ты весь в саже, – пробормотала Марина. Она прикрыла рукой рот, словно женщина на гравюре девятнадцатого века, говорящая «ой».
– Зато теперь знаю, как медсестру позвать, – фыркнул Джордж. Он сгреб кучу салфеток с прикроватного столика и отхаркивался в них чем-то черным.
На него, конечно, поцыкали, но на самом деле его вины здесь не было – какого дьявола он не должен открывать жалюзи? А потому что все дерьмо, что за годы там скопилось, валится со стен. Впрочем, риска занести инфекцию не было: шейка не открылась даже на полсантиметра.
В конце второго дня они снова отправились домой с подушкой, и малярным роликом (от прелиминарных болей), и объектом для фокусировки, маленькой картиной, подаренной соседкой. Париж, Сена, тушь и акварель. Сине-серая река прокладывала путь меж каменных серо-коричневых стен.
Марина, наконец, родила в начале января 87-го. Потребовалось больше тридцати часов схваток, и закончилось все экстренным кесаревым сечением. В какой-то момент, когда схватки стихли, мать Марины, приехавшая, чтобы помочь при необходимости, позвала его в родильный зал, и Джордж вернулся, заработав геройский сэндвич и пару бутылок пива. Он опустошил их на холодной скамье посреди Бродвея. Уже сорок два часа или около того он ничего не ел. Потом, массируя ее поясницу и копчик малярным валиком – прошло пятнадцать или двадцать часов схваток, – он заключил, что ни одно из проявлений физической силы мужчиной, которое он когда-либо видел, не могло с этим сравниться. Он не мог полностью вникнуть в его суть. Двадцать пять часов, двадцать восемь. Пошел тридцатый час, шейка матки раскрылась всего на десять сантиметров, частота сердечных сокращений плода стала падать, кислородная сатурация тоже, и на каталке их помчали в операционный зал. Одна из медсестер помогла Джорджу вымыться, одеться и ввела в операционную, которую в спешке не успели обставить для наблюдавшего родственника: его усадили на простой стул типа кухонного, у руки Марины, и он взял ее за руку, холодную как лед из-за эпидуралки, будто из холодильника. С самого начала он допустил ошибку: повернулся туда, где шла