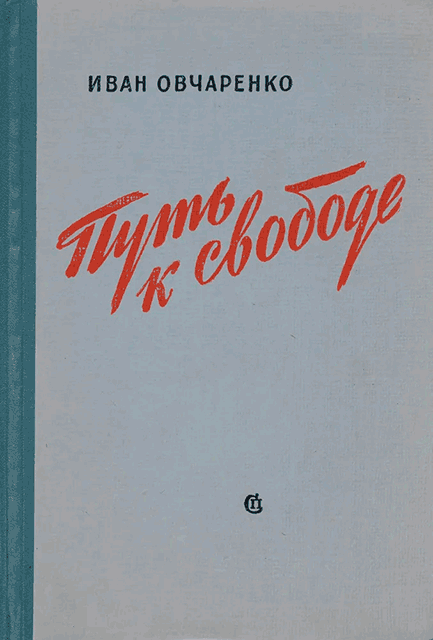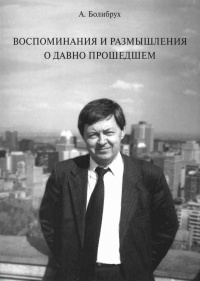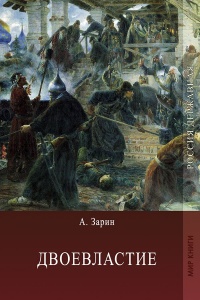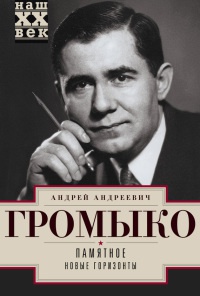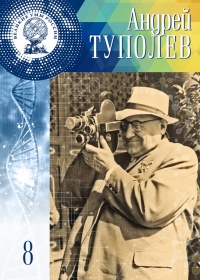из гостиницы уже давно меня за неплатеж выгнали, ночую, где придется: под мостом, на барже, в метро, на вокзале… И наскучило мне так без определенного места жительства болтаться. Давай, думаю, в каком-нибудь учреждении постоянный ночлег устрою. Обошел я местные церкви, присмотрел было одну будку-исповедальню, но не решился, конечно: стыдно стало такого кощунства. А тут как раз вижу на Больших бульварах – прекрасный музей восковых фигур, по названию Гривен. Собрал я свои последние франки, заплатил за вход и начал помещение осматривать: где бы постель приготовить.
И, вот, внизу, в подвальном помещении, где представлена жизнь первых мучеников-христиан, прекрасное место нашлось. Шикарное помещение, большое, просторное, с освещением и с отоплением. Изображало оно римский цирк со львами и тиграми, терзающими несчастных людей, и от коридора отделялось высокой решеткой. Улучил я момент, когда в коридоре никого не было, перемахнул через решетку, лег у стены среди других христиан и наслаждаюсь уютом. А по коридору в это время опять публика задвигалась. Дамы, мужчины, дети… Смотрят сквозь решетку на меня, на других, охают, плачут. А я лежу, лежу, да и заснул, наконец… Тепло, светло.
Н, вот, представьте, просыпаюсь ночью и слышу: недалеко от меня глухое ворчание. Музей давно заперт, свет потушен, кругом ни зги. И, вдруг, кто-то живой совсем недалеко…
Волосы, милые мои, сразу же дыбом встали на голове. По спине побежали мурашки. Ноги не движутся, по лбу катится холодный пот… Зажег я дрожащей рукой спичку, оглядываюсь и вижу: поднимается из другого угла цирка мертвый христианин, громко зевает, приближается ко мне и, глядя в лицо, говорит человеческим голосом:
– Вы кто: тоже русский?
– Саша! – кричу я. – Неужели это ты? Степанов?
– А как же… Батюшки! Володя! Какими судьбами?
– Вот, дети, какие истории со мной нередко случались – закончит свой страшный рассказ будущий дедушка. – Вам, малышам, конечно, не понять, как жили отцы. Но если не верите, спросите дядю Алешу: он вам и не то про свои приключения расскажет!
«Возрождение», Париж, 7 января 1930, № 1680, с. 2.
Мечты
А право, Франция постепенно делается для нас второй родиной.
Это не значит, разумеется, что мы начинаем денационализироваться. Но интересы Парижа, безусловно, становятся нам все ближе и ближе.
Некоторые уголки, как например залы Жан Гужон[211] или Агрикюльтер, стали нашему сердцу удивительно близкими. Трокадеро трогательно напоминает петербургский Народный Дом. Рю Дарю или рю д-Одесса сделались чем-то вроде Екатериниского канала или Большой Морской, по которым мы ходили молиться в Казанский и Исаакиевский соборы.
И вот, единственно, что неприятно действует на зрение и является анахронизмом – это иностранные вывески и обилие французских названий.
Нет-нет, заглянешь на плакат, на афишу, на табличку с названием улицы и вспомнишь, что французская колония в Париже все-таки самая многочисленная.
В связи с этим, в последнее время, проезжая куда-нибудь в автобусе или в вагоне трамвая, я часто ловлю себя на фантастической мысли:
– А что, если перевести все вывески, все названия и все фамилии на русский язык? Разве не хорошо получилось бы?
Едешь по городу, а по бокам русские вывески так и мелькают:
«Мясная Богородицы Полей» (Бушери де Нотр Дам де Шан).
«Красильня св. Троицы» (Тентюрери де ля Трините).
Тюрьма «Здоровье».
Вокзалы: святого Лазаря, северный, восточный, Парнасской горы.
Около площади Согласия – прекрасный парк Тюильри с таблицей: «Общественный сад черепичного завода. Просят цветов не рвать и деревьев не ломать».
Монмартра уже не было. Была бы «Куницына гора» с русскими ресторанами, харчевнями, погребками. И повсюду по Парижу русские улицы. Не только те, которые были ими раньше, вроде рю де Моску, рю де-ля-Нева, пассаж д-Одесса, рю де-Петроград, рю де-ля-Волга, рю де-Трактир, рю де-Пьер-ле-Гран, авеню Малаков, авеню Александр Труа…
Нет, повсюду таблички с переведенными названиями: Университетская улица, Святомихайловский бульвар, Архиепископский мост. Улицы – Успенская, Купальная, Вавилонская, Банная, Банковская, Адмиральская, Договорная, Альпийская, Архивная…
Дышалось бы нашему брату при такой замене названий – чудесно. Гуляли бы мы днем по Святомихайловскому или по Итальянскому, вечером собирались бы в залах Ивана Гужонкина, в «Земледелии», у гражданских инженеров, что на Белой улице… Почитывали бы днем газетки – «Утро», «Парижское эхо», «Время», «Свободу», «Волю», «Друга Народа».
И государственные деятели тоже могли бы окончательно сделаться нашими, национальными, если бы перевели свои фамилии на русский язык.
Пуанкаре был бы у нас в вольном переводе «Точка-Четырехугольников». Тардье – Позднобогов.
Пенлеве – Хлебовзошедшев. Лушер – Косоглазов. Шерон – Дороган.
И даже для коммунистов, так и быть, нашлись бы соответственные фамилии: Кашен – Пряткин, Вайан-Кутюрье – Храбрый Портняжка…
Да, много фантазий приходит мне в голову после долголетнего сидения в Париже. Страшно хочется иногда забыться, вообразить, что ты совсем у себя, дома, никуда никогда не уезжал…
А это показывает, что с Парижем мы, действительно, сроднились и искренне любим его. Любим, наверное, значительно больше, чем наши английские эмигранты – холодный, сдержанный Лондон.
Хотя, впрочем, и в Англии тоже не трудно при желании кое-что перевести на русский язык и приблизить к себе. Черчилля, например, сделать Церковниковым. Лорда Грея – Серовым.
Но это уже забота самих русских лондонцев. Мы в их дела не вмешиваемся.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 21 января 1930, № 1694, с. 3.
Временная беда
Для наших дам настало тяжелое время.
Америка до сих пор не может оправиться от своего глупейшего кризиса. И русские женщины в Париже поневоле должны страдать.
Разгром наших кутюрных домов продолжается, несмотря на все мероприятия Гувера и американского министра финансов. Десятки мезон де кутюр закрылись. Другие кое-как дышат, погруженные в зловещую спячку. Третьи распустили всех служащих, остались без «первой» руки, без «второй», в подобном инвалидном состоянии ожидают лучшего будущего. И почти все хозяйки предприятий оставили при себе только своих мужей или сестер, да и то не знают, что с ними делать.
Директрисы сейчас сами себе и руки, и ноги, и кузезы[212], и ливрезы[213], и вандезы[214], и даже плерезы[215].
А мужья покорно варят обед, подметают квартиру, открывают двери, когда раздается звонок, вздыхают, видя вместо американской клиентки пришедшую за работой даму, и утешают своих жен, как могут:
– Потерпи, душечка. Не может же Америка долго существовать без комбинезонов. Это тебе не СССР.
Во всей истории с результатами американского кризиса для меня неясно следующее обстоятельство. Неужели клиентами наших домов были только лица, игравшие на бирже дутыми ценностями?
Ведь, помимо биржевых игроков, есть же в Америке и серьезные капиталисты, женам которых тоже нужны платья, платки, белье и манто?
Куда же они все девались?
Не умерли же от попугаевой болезни, черт возьми!
Затем, еще второе недоразумение: когда в солидном государстве происходит какой-нибудь крах, всегда должно быть так, что одни разоряются, а другие обогащаются.
А где же обогатившиеся? Отчего до сих пор