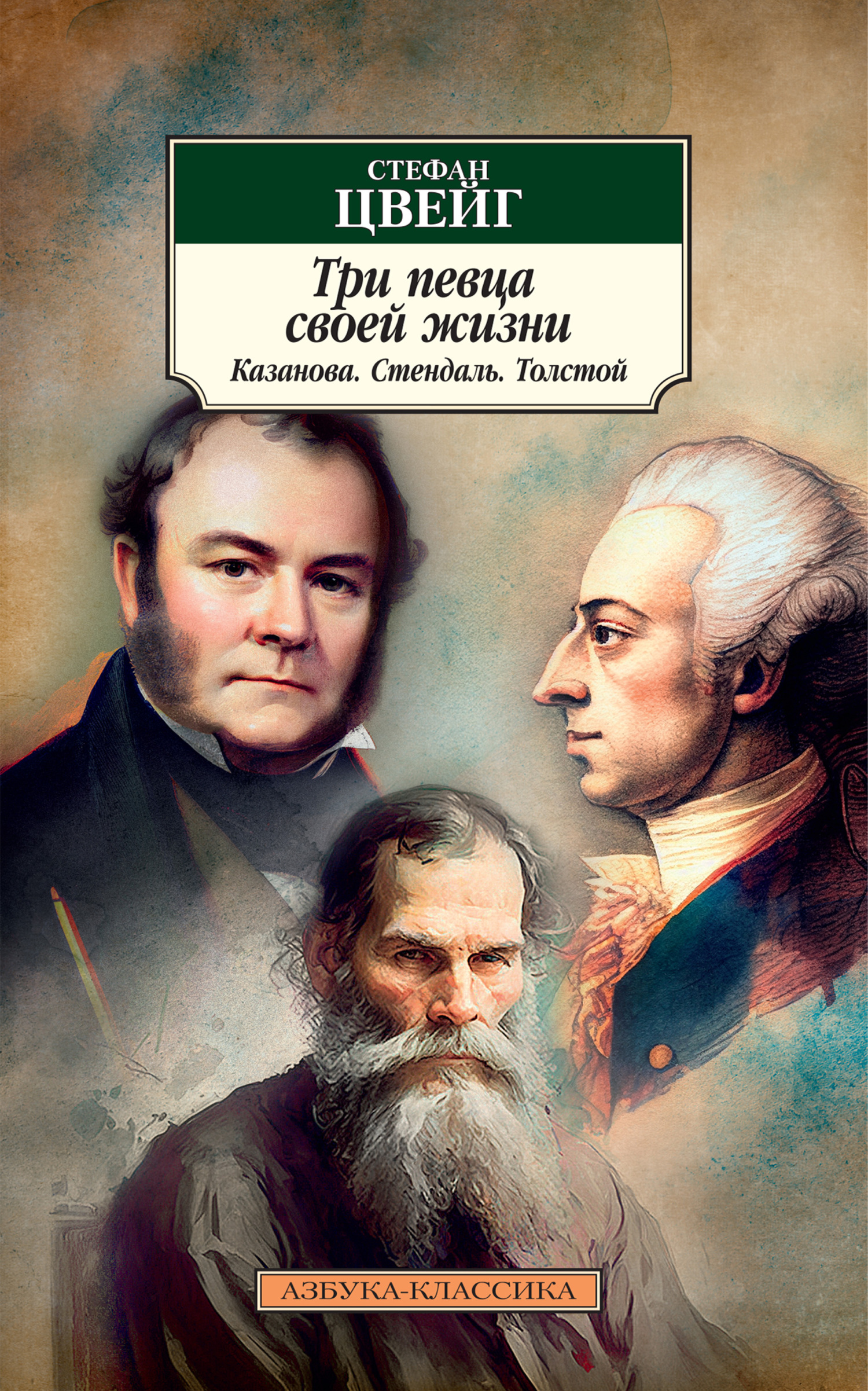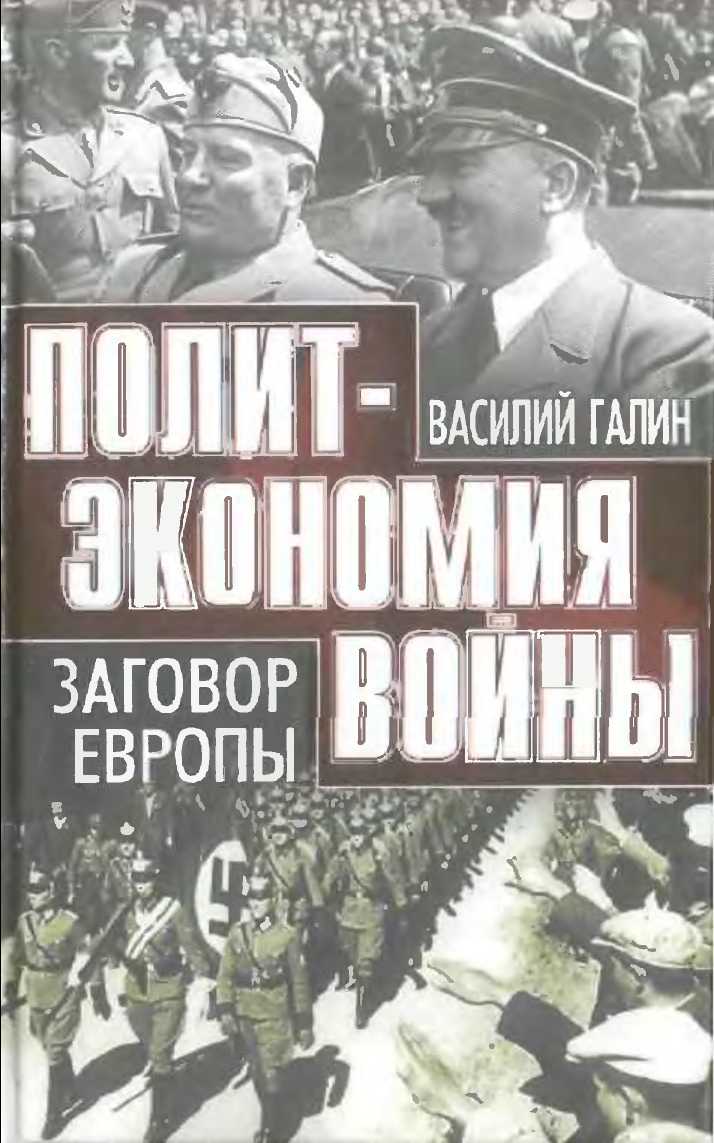лбу, воскликнуть с важным видом крупного землевладельца: «Какая великолепная погода для сена!»
Его вечерние излишества в бильярдной Шарпантье немного поколебали его репутацию, но за несколько дней до того, как разнесся слух о его дурном поведении, он купил огромную коляску, способную вмещать в себя многочисленные семейства, которыми изобиловал Нанси; для этой-то цели и предназначал ее Люсьен. Шесть девиц Серпьер с матерью обновили, как принято выражаться, эту коляску. Другие семьи, не менее многочисленные, решились попросить ее и тотчас же получили. «Господин Левен – отличный малый, – твердили всюду, – правда, это ему недорого стоит. Его отец играет на повышении ренты с министром внутренних дел, и бедная рента оплачивает все это». Столь же мило объяснял господин Дю Пуарье происхождение «прелестного подарка», который сделал ему Люсьен, исцеленный им от «летучей подагры».
Все потворствовали желаниям Люсьена, даже его отец, который ничуть не жаловался на его расходы. Люсьен был уверен, что, говоря с госпожой де Шастеле, все отзывались о нем хорошо, но тем не менее дом маркиза де Понлеве оставался в Нанси единственным, в котором шансы Люсьена, по-видимому, падали. Напрасно Люсьен делал попытки явиться туда с визитом. Госпожа де Шастеле, чтобы не принимать его, предпочла закрыть свои двери, сославшись на нездоровье. Она обманула даже бдительность самого доктора Дю Пуарье, который говорил Люсьену, что госпожа де Шастеле поступит благоразумно, если еще долго не будет выходить. Воспользовавшись предлогом, подсказанным ей доктором Дю Пуарье, госпожа де Шастеле ограничила свои визиты, не боясь, что дамы Нанси обвинят ее в гордости и нелюдимости.
Когда Люсьен увидел ее вторично после бала, она держалась с ним как с человеком почти незнакомым; ему даже показалось, что она не отвечала на те немногие слова, с которыми он обращался к ней, так, как того требовала бы самая элементарная вежливость. После этого второго свидания Люсьен принял героическое решение. Робость, которую он испытывал всякий раз, когда наступал момент действовать, еще увеличивала его презрение к самому себе.
«Боже мой! Неужели то же случится со мной, когда моему полку придется атаковать неприятеля?» – Люсьен осыпал себя самыми горькими упреками. На следующий день, как только он пришел к госпоже де Марсильи, доложили о госпоже де Шастеле.
Безразличие, с которым она к нему относилась, было настолько явным, что под конец он возмутился. Впервые он воспользовался положением, завоеванным им в свете; он предложил госпоже де Шастеле руку, чтобы проводить ее до кареты, хотя было очевидно, что эта притворная учтивость очень ей неприятна.
– Простите меня, сударыня, если я недостаточно скромен; я очень несчастен.
– Говорят совсем другое, сударь, – ответила госпожа де Шастеле самым естественным и непринужденным тоном и ускорила шаг, чтобы поскорее добраться до кареты.
– Я угождаю всем жителям Нанси в надежде, что, быть может, они в вашем присутствии будут хорошо отзываться обо мне; по вечерам же, чтобы забыть вас, я стараюсь заглушить свой рассудок.
– Мне кажется, сударь, я не давала вам повода…
В эту минуту лакей захлопнул дверцу, и лошади умчали госпожу де Шастеле, почти лишившуюся сознания.
Глава двадцать вторая
«Может ли быть что-нибудь более постыдное, – воскликнул Люсьен, застыв на месте, – чем эта упорная борьба с отсутствием чина! Этот демон никогда не простит мне, что я не имею обер-офицерских эполет!»
Ничто не могло быть безотраднее этой мысли, но во время визита, закончившегося изложенным выше коротким диалогом, Люсьен, казалось, опьянел от божественной бледности и изумительно прекрасных глаз Батильды. Это было одно из имен госпожи де Шастеле. «Нельзя упрекать ее, обычно дышащую таким ледяным холодом, за то, что взгляд ее по каким бы то ни было причинам оживился в эти полчаса, когда говорили о стольких вещах. Но в глубине ее глаз, невзирая на благоразумие, к которому она сама себя принуждает, я заметил таинственный блеск, какое-то мрачное волнение, словно эти глаза следили за иной, более интимной и более острой беседой, чем та, что воспринимается нашим слухом».
Чтобы быть смешным до конца, даже в своих собственных глазах, бедный Люсьен, как мы видели, совершенно упавший духом, решил написать. Он сочинил прекрасное письмо, отправился в Дарне, городок, находящийся в шести лье от Нанси по дороге в Париж, и собственноручно опустил послание в почтовый ящик. На второе письмо, так же как и на первое, ответа не последовало.
К счастью, в третьем у него проскользнуло случайно, а не преднамеренно, так как, говоря по совести, в такой хитрости мы не можем его заподозрить, слово подозрение.
Это слово оказалось драгоценным подспорьем для любви, которую все время неустанно старалась побороть в своем сердце госпожа де Шастеле. Дело в том, что, несмотря на жестокие упреки, которыми госпожа де Шастеле без конца осыпала себя, она всей душой любила Люсьена. День приобретал для нее значение и ценность, лишь когда она сидела по вечерам у жалюзи своей гостиной и прислушивалась к шагам Люсьена, который, не догадываясь об успехе своих стараний, проводил целые часы на улице Помп.
Батильда (так как в слове «госпожа» слишком много степенности для такого ребячества) проводила вечера, укрывшись за жалюзи и дыша через маленькую трубочку из лакричной бумаги, которую она держала во рту, как Люсьен – сигару. В глубокой тишине, царившей на улице Помп, пустынной даже днем, а в особенности в одиннадцать часов вечера, она с наслаждением, довольно невинным конечно, слушала, как шуршала в руках Люсьена лакричная бумага, когда он вырывал ее из книжечки и складывал, свертывая свою самодельную «сигарито». Виконт де Блансе имел честь и счастье преподнести госпоже де Шастеле одну из тех книжечек, которые, как вам известно, доставляются из Барселоны.
Горько упрекая себя за то, что нарушила долг всякой женщины по отношению к самой себе, госпожа де Шастеле в первые дни после бала, не столько заботясь о своей репутации, сколько из-за Люсьена, уважение которого было для нее важнее всего, обрекла себя на скуку, сказавшись больной и выезжая крайне редко. Действительно, благодаря ее благоразумному поведению приключение на балу было совершенно забыто. Все видели, как она краснела, разговаривая с Люсьеном, но так как за два месяца она ни разу не приняла его у себя, хотя ничего не могло быть проще этого, все пришли к заключению, что, разговаривая на балу с Люсьеном, она уже начинала испытывать недомогание, заставившее ее в скором времени уехать домой. После обморока, случившегося с нею на балу, она призналась по секрету двум-трем знакомым дамам: «Прежнее здоровье не вернулось ко мне, оно