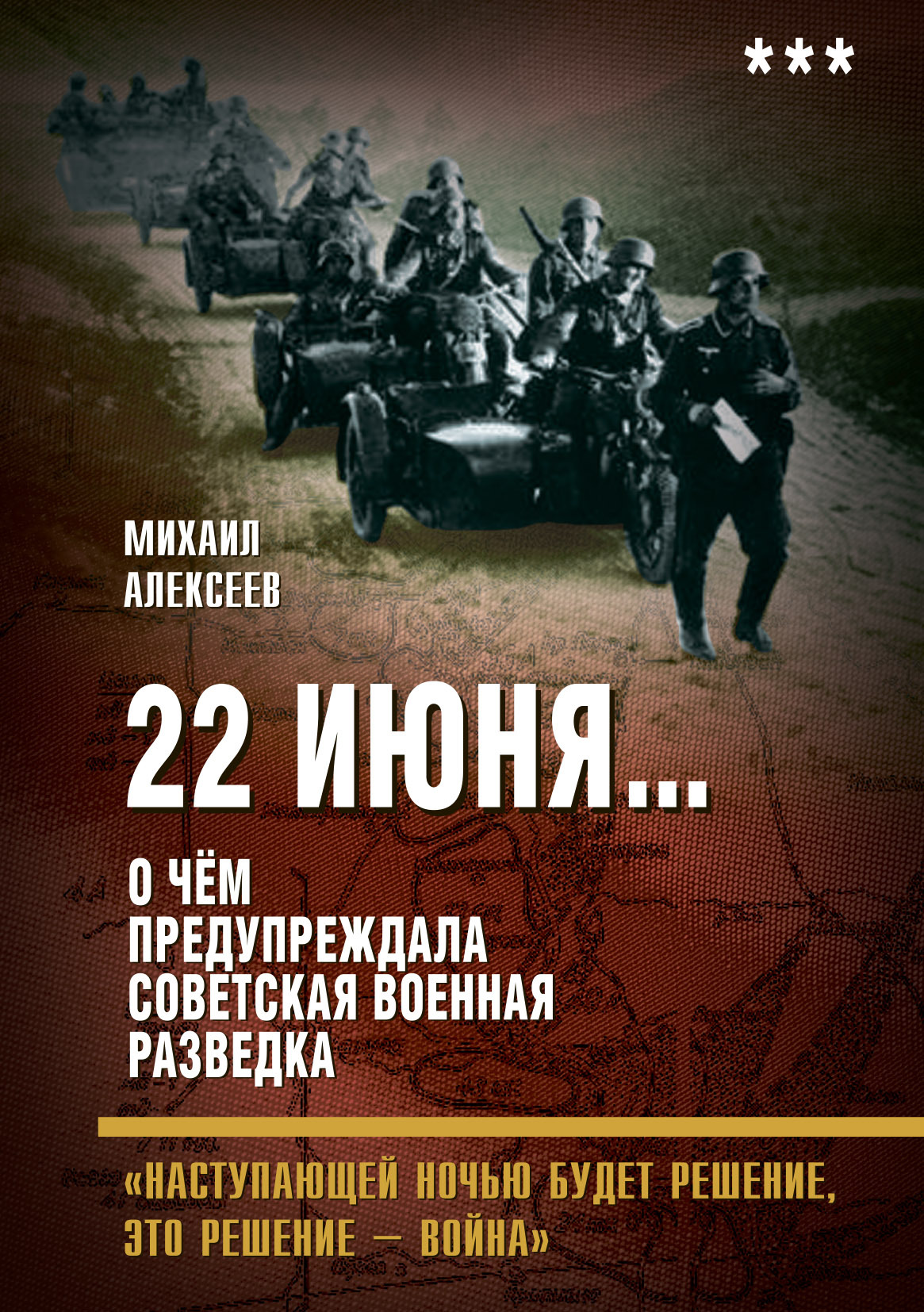многооконное здание из побуревшего от времени кирпича. Непохожее на жилое. Неприютное, как бывают всегда неприютны остановленные цеха и бездействующие машины. Отдаленное от людского жилья, окруженное высоким, глухим забором с непременной колючей проволокой по нему, оно господствует, громоздится над местностью. Позади здания, за таящимся в его глубине двором с опять же непременной, аппелевой площадью, пролегает ров…
Так отчетливо я себе представляла все это, что казалось: найду, узнаю, угадаю его. Это только казалось.
С польскими товарищами, горячо относившимися к моим поискам, мы изъездили, исходили вдоль и поперек город Лодзь и его окрестности. Самые разные люди пытались нам помочь: от представителей государственных учреждений до случайно встреченных, случайно услышавших, что мы ищем. Молоденькие милиционеры подсаживались к нам в машину, предлагая свои маршруты поиска. Я заметила: Польша, потерявшая в эту войну свыше двух миллионов своих детей, остро и от души откликается на военные судьбы чужих детей.
Каждый из сопровождавших нас что-то помнил, слышал, читал о судьбе «радзецких» детей, вывезенных в Польшу. Но указать, где именно, в какой заброшенной фабрике находился во время оккупации лагерь, который ищем, не мог никто.
Людные улицы центра Лодзи. И, пожалуй, не менее людные окраинные. Подсвеченное заводскими дымами небо над ними. Прорывающийся сквозь фабричные стены гул работающих цехов.
Он жил своей сегодняшней жизнью, этот большой промышленный город — «крупнейший центр шерстяной и хлопчатобумажной промышленности, машиностроения, химии, узел шоссейных и железных дорог». Так примерно говорится о нем во всех справочниках.
Он жил своей сегодняшней жизнью, устремляясь в завтрашнюю. А прошлое… Память города не сохранила в себе этого малого фрагмента войны, которому минуло более четверти века…
Однажды мне показалось, что я нашла тот лагерь. Случилось это в один из последних дней моего пребывания в Лодзи.
Серое, потемневшее от непогод здание на окраине. Не было ничего фабричного в его заостренных линиях — скорее костел или, может быть, монастырь. Зато остальное… Мне казалось, все совпадает: и безлюдность — отдаленность от всякого жилья. И господство над местностью и шоссе вдоль фасада. И скрытый в глубине двор. Но главное было даже не в этом. Главным было какое-то ощущение обреченности, что ли, исходившее от мрачного этого здания, от всего, что окружало его.
Именно так, по моим представлениям, должен был бы выглядеть лагерь, который искала.
На первый взгляд здание казалось брошенным, нежилым.
Ничего никому не объясняя, я попросила остановить машину и, суеверно боясь утратить найденное, испугавшись, что все это лишь мираж, который тотчас растворится в хмури серого дня, кинулась по изрытому полю, по клочковатому рыжему снегу к наглухо закрытым воротам.
— По-моему, это здесь, — сказала я, останавливаясь перед воротами и не очень понимая, как проникнуть за них.
— Проше, пани, что именно? — удивился мой спутник. Был им на этот раз Здислав Влощинский, инженер-строитель, сам в прошлом узник «Полен Югендфервандлагер». — Пани думает — здесь был лагерь? Верно. Але не тот, что ищем?
Оказывается, в этом здании находился пункт, или лагерь расенамт — управления расы. И сюда привозили детей для «испытания на расу». Тот, кто проходил испытания, временно оставался здесь. Остальных отправляли обратно — в «Полен Югендфервандлагер» в том числе.
— Проше, пани, нелегко было возвращаться. Тут, по крайней мере, кормили!
Влощинский сказал, что здесь проходили «испытания на расу» Виташкувны. После казни отца их заключили в «Полеy Югендфервандлагер». Через некоторое время забрали сюда. А потом увезли в Германию.
— Виташкувны! Дочери Франциска Виташка? Руководителя подпольной организации Сопротивления, действовавшей в городе Познани?
— Пани знает эту историю?!
Историю его дочерей я прочитала в материалах Главной комиссии по расследованию, в показаниях их матери, Галины Виташек. И не смогла позабыть об этой истории. Попыталась разыскать, а потом свести воедино то не очень многое, что было в польской прессе, о докторе Виташке и его семье. И что удалось услышать от людей.
И записала эту историю. Записала не только потому, что она потрясает своим трагизмом. Но также и потому, что в ней очень ясно просматривается практическое осуществление предначертанной Гиммлером программы: «Добыть или уничтожить».
В данном случае — добыть!
Виташкувны
Алодия и Дарийка Виташек. Алодии было неполных пять лет, Дарийке — неполных четыре года, когда их привезли в «Полен Югендфервандлагер».
В лагерной карте каждой из них в графе «Ейнлиферунгсгрюнде», то есть «причина помещения в лагерь», значилось: «По приказу рейхсфюрера и шефа немецкой полиции (читай — Гиммлера) направляется в лагерь вместе с другими детьми польских террористов» («полнишетеррористенкиндерн»).
По имеющимся сведениям, судьбами Алодии и Дарийки, как и других детей, направленных вместе с ними в «Полен Югендфервандлагер», действительно занимался сам Гиммлер. Во всяком случае массовые аресты детей, чьи родители были казнены как члены подпольной организации, руководимой доктором Виташком, начались в ноябре 43-го года, что совпало по времени с пребыванием Гиммлера в городе Познани. С его речью, произнесенной там перед высшими офицерами СС:
«Мы возьмем от других наций ту здоровую кровь нашего типа, которую они смогут нам дать. Если в этом явится необходимость, мы будем отбирать у них детей и воспитывать их в нашей среде…»
Но прежде об отце Алодии и Дарийки и о созданной им организации. Как я уже говорила, мой рассказ основывается на опубликованных в польской прессе материалах. В частности, на обстоятельной и интересной статье Генрика Тыцнера, лично знавшего доктора Виташка.
Доктор Франциск Виташек. Было ему в то время, о котором пойдет речь, немногим более тридцати. Жил он до войны в Познани. Имел жену и пятерых маленьких детей. Был ассистентом Института медицины и гигиены. Руководил созданной им, единственной в то время в стране мастерской, изготавливавшей нити для наложения послеоперационных швов. Сотрудничал в отделе микробиологии Познанского университета. Были у него свои изобретения и открытия. Был он человеком разносторонне одаренным. Но, кроме этого, в памяти знавших его людей он остался как человек большого личного обаяния, отзывчивости и бескорыстия.
Выселенный в первые же дни оккупации, как и многие другие поляки, из своего дома, лишенный возможности заниматься научной работой, он перешел к врачебной практике. На велосипеде он добирался до самых отдаленных польских жилищ, на окраинах города.
«Можно и теперь еще встретить в Познани людей, которые помнят бескорыстную помощь доктора Виташка», — пишет Генрик Тыцнер. Тяжелые условия, в которых жили поляки во время оккупации, порождали различные болезни, в том числе инфекционные. Вспыхивали эпидемии. Доктор Виташек вместе с группой польских врачей тайно делает прививки полякам, получая вакцины из немецкого института микробиологии через лаборантку Елену Сикерицкую, единственную работавшую там