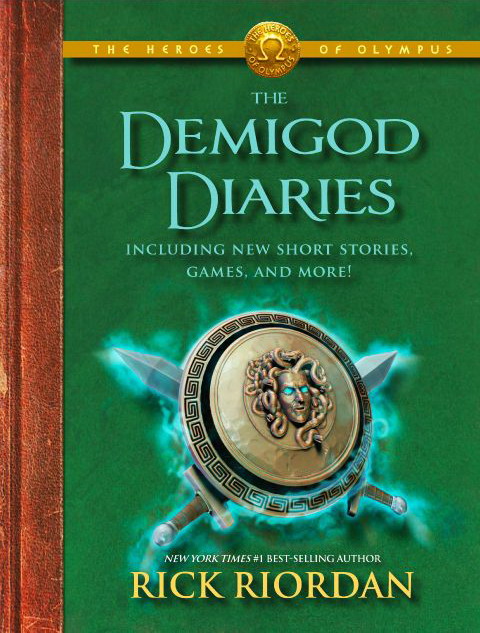ряской водную гладь пруда для сохранения первозданности этого милого закутка природы. Тёплыми летними вечерами благоухающий сад вливал в открытые окна мясоедовского гнезда пряный запах причудливо смешанных цветочных ароматов, а из освещённых недр дома ответной благодарностью неслись чарующие звуки музыки. В трудные моменты внутреннего разлада только они приносили художнику успокоение. «Музыка одна не лжёт, как лгут люди», – любил повторять Мясоедов.
Между тем в Товариществе передвижных художественных выставок нарастали серьёзные противоречия. Назревшая реформа превратила правление Товарищества в Совет, в составе которого снова значился Мясоедов. А в 1893 году Григорий Григорьевич вместе с некоторыми передвижниками стал действительным членом тоже не избежавшей преобразования Академии художеств. Разгорелись нешуточные страсти, такой поступок вызывал активное осуждение со стороны тех, кто считал принцип несовместимости Товарищества и академии непоколебимым, почти что священным. Ревностные блюстители первозданной чистоты идеалов Товарищества высказывались столь же категорично и эмоционально, как это сделал Владимир Васильевич Стасов: «…от прежней знаменитой и могучей этой компании не осталось и следа, не осталось ни единого камня на камне. Все они, как единое стадо, так и сунулись в раскрытую мышеловку, на разные кусочки развешанного сала; они собственными руками надели на шею хомуты и капканы и превратились из свободных людей и художников во всепокорнейших академистов и придворных!..» В пылу обвинений великий критик не учёл только один очень существенный позитивный момент порицаемого им сближения – широкую перспективу пропаганды идей передвижничества среди учащейся молодёжи. Мясоедов эту возможность оценил. Он вообще болел душой за состояние художественного образования в провинции. Григорий Григорьевич активно участвовал в деле усовершенствования художественной педагогической практики в Харькове, Киеве, Одессе и даже исходатайствовал выделение средств для постройки нового здания Казанской художественной школы. А в Полтаве на собственные средства, сняв квартиру «большую и дорогую», Мясоедов организовал для всех желающих рисовальные классы. Удивительно, но этот резкий, нетерпимый человек обладал большим запасом сопереживания.
В 1899 году туберкулёз свёл в могилу 39-летнюю Ксению Васильевну. Григорий Григорьевич переживал утрату тяжело и в приступе скорби поведал сыну об истинных узах, связывавших Ваню с почившей. Само собой разумеется, что раскрывшийся секрет семейной драмы отразился на Иване Мясоедове не лучшим образом, и его от природы трудный характер разросся с годами до необузданной своенравности.
Григорий Мясоедов дал жизнь человеку, безусловно, неординарному. Ваня рано проявил блестящие художественные способности, которые, как поговаривали, превосходили отцовский талант. Став поначалу питомцем открытой отцом в Полтаве частной художественной школы, младший Мясоедов поступил затем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Каникулярное время Иван проводил в родительском доме. На территории павленковской усадьбы он обустроил себе отдельное жильё. В уединённом флигеле, расположенном на почтительном расстоянии от главного дома, Иван Григорьевич размышляет о жизни и занимается творчеством, «у него постоянно торчат молодые люди, его рабы и наперсники, которых он угнетает своим величием и абсолютностью своих приговоров». Чуть ли не сызмальства восстав против обывательской скуки, Ваня превратился в неуправляемого оригинала. Его внутренняя свобода доходила до шокирующей раскованности. В советах отца молодой художник нуждался мало, неохотно снисходя до общения с родителем и его знакомыми. Не способствовали сближению отца и сына и их разные художественные предпочтения. В живописи Иван Мясоедов тяготел к академической классике, в то время как Григорий Григорьевич был убеждённым реалистом. Учёба в Академии художеств погрузила младшего Мясоедова в стихию античности, он пленился культом красоты человеческого тела. Упорными тренировками Иван и себя довёл до физического совершенства. Красовался нагишом, выступал с силовыми упражнениями в цирке. Принять столь эпатажное сыновнее поведение Григорию Григорьевичу, разумеется, было трудно, но он, всегда выражавший свою позицию с запредельной правдивостью, в жизнь наследника предпочитал не вмешиваться.
Прежняя горячая приверженность Мясоедова к прогрессивным тенденциям в искусстве, не поспевая за временем, превратилась в непреклонный консерватизм. Подстраиваться, корректируя свои ранние представления, у художника получалось плохо, вернее, не получалось совсем. «Непригоже нам, – считал Григорий Григорьевич, – идя в Иерусалим, заходить в кабачок, тонуть в этом новом искусстве. Лучше вариться в собственном соку». Но почва, на которой живописец уверенно стоял столько лет, стала вздыбливаться, сотрясаться, пытаясь сбить с ног Мясоедова и таких же ретроградов из старой гвардии передвижников. Григорий Григорьевич принципиальничал, отстаивал, защищался, но свежие веяния в искусстве оказались упрямее и сильнее. В 1900 году в ответ на очередную попытку «стариков» преградить путь новым тенденциям в искусстве Товарищество покинули семь молодых художников во главе с Валентином Александровичем Серовым. Состоялось эмоциональное заседание Совета, на котором Репин потребовал роспуска ТПХВ. Это решение было практически всеми поддержано, но Григорий Григорьевич продолжал настаивать на сохранении традиций передвижничества в первозданном виде и в результате остался единственным членом покинутого художниками Совета ТПХВ.
Несговорчивость старого передвижника стала вызывать раздражение даже в Академии художеств. От мясоедовских «особых мнений» отмахивались, как от назойливой мухи, запрятывая их в долгий ящик. «Мне остаётся только отойти в сторону, чтобы избавить себя от ответственности за неисполнение свободно принятых на себя обязанностей», – уязвлённо прокомментировал художник пренебрежительное отношение к своим предложениям. В 1902 году Григорий Григорьевич вышел из состава действительных членов Академии художеств.
Теперь раздосадованный, разочарованный Мясоедов не часто появлялся в обществе. Пожалуй, только музыкальный повод приводил его в круг старых друзей. Вечерами на Васильевском острове можно было встретить бредущего по тротуару высокого старика «с умным лицом, длинным и немного искривлённым набок носом, с сухой, саркастической улыбкой тонких губ, прищуренными глазами». Его походка была несколько неестественна. «Это означало, что он шел играть в квартете и нес альт, который висел у него под шубой на животе, привязанный ленточкой через шею».
Строгость мясоедовской позиции в вопросах искусства находила всё меньше поддержки, и Григорий Григорьевич принял решение отойти от столичной, бурлящей новыми настроениями художественной жизни, которой он уже ничего не мог предложить. В знакомой художнику московской семье Васильевых он приметил незамужнюю 35-летнюю Татьяну Борисовну и предложил ей стать помощницей в своих хозяйственно-бытовых делах. Татьяна Васильева последовала за живописцем в Ялту, а потом поселилась в его павленковской усадьбе. Это была молчаливая женщина, старавшаяся лишний раз не попадаться на глаза гостям хозяина дома. Черты её невзрачного бледного лица не оставляло выражение встревоженной заботы. Заметная скованность Татьяны Борисовны в общении с редкими визитёрами дома Мясоедова проистекала, вероятно, от неопределённости её положения рядом с живописцем. Сам Григорий Григорьевич не утруждал себя пояснениями на сей счёт. Как бы то ни было, но Васильева оставалась рядом с Мясоедовым до самой его кончины.
Во время учёбы Вани в Академии художеств Григорий Григорьевич предпринял попытку напомнить о себе. Он взялся за большое полотно, и академия даже предоставила именитому мастеру необходимую для работы квартиру в Петербурге. Для своей очередной