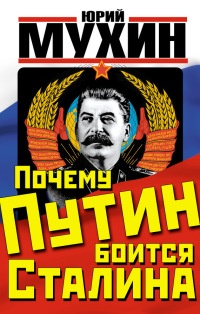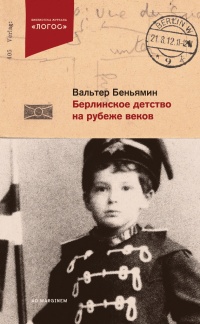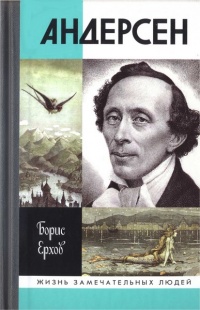Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87
– Вы, конечно, еврей, – сказал я, – и поэтому должны видеть все под определенным углом. У меня это так.
– Надо полагать, я еврей. Да, мне нравится заходить в синагоги, вам ведь тоже? Прекрасные музеи утраченной культуры.
Я был поражен, – оказывается, этот человек стесняется собственного наследия. Как и большинство ассимилировавшихся евреев, он предпочитал держаться от темы иудаизма на некотором расстоянии.
– Еврей – по определению чужой, – сказал я, – особенно в Германии. Вот почему сионизм кажется мне естественной реакцией на определенные исторические обстоятельства.
– Немцы хорошо относятся к евреям, – неудачно встрял Георг. – Да и не существует никаких настоящих немцев: страну эту изобрели недавно, составили из множества разных народов. Евреи – лишь маленький фрагмент большой мозаики, которую представляет собой современная Германия.
Вальтер кивнул, как будто соглашаясь. Правда, позже я понял, что этим знакам, которыми люди обычно обмениваются при разговоре, тут доверять нельзя. Он каким-то странным образом отделял себя от других, ничем не обнаруживая своих помыслов, в отличие от большинства из нас. Между ним и реальным миром существовала невидимая, но прочная стена: его друзья постоянно на нее наталкивались, и она ошеломляла их своей крепостью и непроницаемостью.
– Социализм – это, в сущности, мессианское вероучение, пусть и светское, – продолжал я. – Это, наверное, и так очевидно – что об этом говорить. Я лично убежден в том, что духовные чувства – представление о справедливости – должны произрастать из чтения Торы. В конце концов, я еврей.
Вы бы, конечно, никогда не догадались об этом, если бы просто наблюдали за моими родителями издалека. Как и родители Беньямина, они оторвались от своих корней. Это были ветви, раскачивавшиеся в рыхлой почве и готовые к тому, что их подомнет культура, обожаемая ими, но презирающая и оскорбляющая их. Задним умом все крепки, но я и тогда уже довольно ясно предвидел судьбу евреев в Европе. Мне противен был самообман, которому поддались все евреи вокруг, и я дал себе слово показать Беньямину важность идей сионизма, пока еще не поздно.
– Во время войны все мы немцы, – изрек Георг.
– Еврей не должен сражаться на этой войне, – настаивал я. – Нет оправданий тому, чтобы защищать эту сконструированную нацию ценой наших жизней. Благодарности от немцев мы не дождемся. В конце концов они нас уничтожат.
Георг, кажется, усмехнулся, но ничего не сказал.
– Мой брат – простодушный патриот, – сказал Вальтер. – Он в самом деле считает, что война окажет на людей очищающее действие.
– Вас призвали?
– Скоро призовут, как и вас. – В глазах Вальтера сверкнул озорной огонек. – Можете себе представить меня с винтовкой в руках?
– Ты бы выстрелил себе в ногу! – засмеялся Георг. – Вальтер, если бы враг догадывался об этом, то умолял бы Германию послать тебя на войну.
Теперь Беньямин и сам фыркнул – с годами я привыкну к этому его странному смеху.
– Забавно, Георг, что ты говоришь о «враге». Враг!
Его смех стал пронзительным, даже неприятным.
– А по-твоему, у нас нет врага?
– Я отказываюсь воображать себе всякую чушь. За нас это делают политики.
Пройдут годы, и Беньямин редко будет изъясняться так прямо. Он просто удалится от мира повседневной политики, уйдет в себя: в мир идей, в небесную беседу, где над схваткой восседают во славе на алебастровом облаке Платон, Кант, Ницше, Гейне, Бодлер, Мендельсон[14] и еще с десяток собеседников.
Георг, покачав головой, вышел из комнаты.
В тот день мы с Беньямином начали думать о том, как избежать призыва. Как бы ни различались наши взгляды на историю, мы оба считали эту войну катастрофой. Это был бессмысленнейший из конфликтов. Мог ли он хоть что-то дать Германии? Чем можно было оправдать гибель миллионов молодых людей, задушенных газами, проткнутых штыками, изрешеченных пулеметными очередями, или потерю ими веры во что бы то ни было – таково было их отчаяние, так абсурдно было происходящее? Это была война без трофеев и без чести – с годами это будет становиться все яснее.
Когда я вспоминаю о нем, меня переполняет особая, почти невыразимая жалость. С Беньямином для меня умер европейский разум, исчез целый образ жизни. Если бы только он приехал тогда в Иерусалим, эту последнюю катастрофу можно было бы предотвратить. Но его погубили упрямство и ужасная нерешительность. Он слишком долго все откладывал, мой милый Вальтер. Чересчур долго. Наверное, это было неотвратимо: безымянная могила в Портбоу и горькие, пустые годы без него, простиравшиеся передо мной, как пустыня.
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН
Человек, слушающий рассказ, находится в компании рассказчика; даже тот, кто читает рассказ вслух, вступает в такое общение. Читатель же романа более уединен, чем любой другой читатель. В своем одиночестве читатель романа набрасывается на его содержание куда ревностнее. Он готов полностью присвоить, как бы поглотить его. И в самом деле, он разрушает и вбирает в себя предложенное ему повествование, как огонь пожирает дрова в камине. Интрига, пронизывающая хороший роман, сродни тяге, раздувающей пламя и заставляющей его плясать веселее.
Письма
Вальтер Беньямин Доре Беньямин
Париж
9 июня 1940 г.
Дорогая моя Дора,
я, как обычно, сижу в библиотеке, за тем же столом, за которым сидел последние десять лет, работаю над книгой. Книга – смею ли я так называть эту тысячу страниц, что стала моей жизнью? Я поглощен этими страницами, они впитали меня в себя, заслонили собой мое реальное существование.
У меня могла бы быть жизнь, «настоящая» жизнь, не такая, как эта. Жизнь с тобой и нашим дорогим сыном, моим милым Штефаном. Могла бы быть, должна была быть, была бы, наверное… Я теряюсь во временах.
За какого смешного человека ты вышла замуж, Дора. И даже не за человека: за лишь временное вместилище смыслов. Слова собираются вокруг меня, движутся сквозь меня. Жилище мое, как тебе известно, – не что иное, как склад книг, журнальных вырезок, страниц, кружащихся в воздухе, словно подхваченные ветром хрусткие октябрьские листья. Ницше утверждает, что Бог умер, подразумевая под этим, что все формы централизованного или централизующего смысла подвергнуты сомнению. Можно сказать, что я воплощение этой смерти, этой утраты твердо установленного смысла. Я сам больше не верю в него и не испытываю по нему ностальгии.
Нацисты наступают, они несут свой твердый смысл, любая неопределенность им враждебна. Они уже столько успели прибрать к рукам: Австрию и Польшу, Голландию и Бельгию. Мне немного легче оттого, что ты и Штефан в Лондоне, в безопасности. Обещанные деньги, если смогу, пошлю в ближайшее время. Сейчас у меня почти ничего нет: Тедди Адорно[15], похоже, забыл о нашем договоре, и чеков по почте не приходит, простого письма и то редко дождешься. Но я не имею права жаловаться на Институт[16]. Благодаря ему я смог жить своими штудиями и тем, что пишу эти последние десять лет. Его стипендия обеспечила мне какие-никакие, но средства к существованию.
Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87