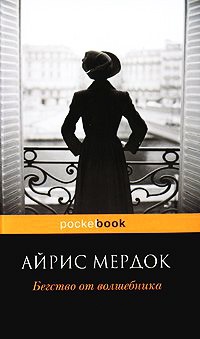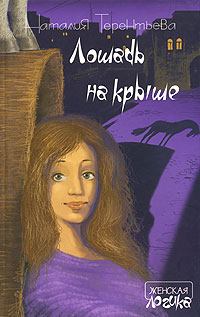Насчет «гласности» она тоже была уже не совсем уверена. Вначале ей казалось, что все ясно, они должны жить открыто; только так Блейз сумеет вернуться на путь правды — праведный путь, — а это, казалось ей вначале, и есть самое главное. К тому же, упразднение тайны должно было помочь Харриет решить еще одну очень важную задачу, а именно «переварить» Эмили Макхью. Ведь даже сейчас некий налет секретности все еще придавал Эмили загадочную власть. Словом, соображений тут было много, в том числе и очень расплывчатых; некоторые скоро отпали. Приходилось учитывать интересы Дейвида, Блейзовых пациентов, наконец, самого Блейза, который хоть и не решался пока открыто протестовать, но был явно не в восторге от обещанных саморазоблачений. И вообще, как все это будет выглядеть со стороны? Сможет ли она внятно объяснить своим ближним, в чем состоит ее замысел искупления? Харриет ясно представляла себе, как огорчится Эйдриан, как он будет мучиться и не находить от смущения слов. Блейз и раньше не слишком ему нравился. В целом будущее вырисовывалось пока весьма туманно. Даже решенный, казалось бы, вопрос с учебой Блейза опять выглядел спорным, хоть Харриет и не терпелось поскорее сообщить Эмили об их с Блейзом общих планах. Блейз, все еще пребывавший в эйфории по поводу своей новообретенной невинности, кажется, не очень сознавал, что планы эти касаются его собственной жизни; и снова Харриет с беспокойством понимала, что все зависит только от нее. Между тем, при всей решительности, с которой она высказалась насчет продажи дома, именно сейчас она была готова к такому обороту меньше всего. Во-первых, Худхаус, как и следовало ожидать, произвел должное впечатление на Эмили. Во-вторых, он, как и всегда, оставался для Харриет крепостью и оплотом, символом ее нерушимой связи с мужем и сыном. Глупо было бы решать такие серьезные вопросы в спешке, гораздо разумнее выждать какое-то время и посмотреть, как все обернется. Да и ради чего такие жертвы? Эмили ей не подруга, а будь на то ее воля, Харриет вообще предпочла бы держаться от этой особы подальше.
Когда, осушив слезы, Эмили собралась уходить, Харриет, неожиданно для себя самой, пригласила ее заглянуть в субботу, часам к шести.
— И обязательно возьмите с собой свою подругу, Констанс Пинн, — сказала она.
Это имя она несколько раз слышала от Блейза, он говорил, что Пинн живет в квартире у Эмили. Харриет, конечно, понимала, что подруга и дуэнья — разные вещи, но все же мысль о том, что в квартире постоянно находится другая женщина, приносила ей некоторое утешение. Сейчас она не то чтобы хотела убедиться в самом существовании мисс Пинн (она в нем не сомневалась), ей просто нужно было держать в руках все нити: самой все решать и устраивать, одобрять или не одобрять — диктовать правила игры. Лишь полное осознание всего происходящего могло дать ей ощущение реальности — и вообще, думала она про себя, так спокойнее.
— Кстати, я приглашу Монтегью Смолла, думаю, вам понравится это знакомство, — добавила она. — Возможно, и Дейвид будет дома.
Монти Смолла Харриет собиралась пригласить для того, чтобы он как следует присмотрелся к Эмили и чтобы потом с ним можно было ее обсудить. Также она очень надеялась уговорить Дейвида показаться гостям — хоть на минутку, ради нее. Но на самом деле Харриет все яснее видела, что центральной и самой важной фигурой во всем этом является Люка.
Именно из-за Люки Блейз столько лет выполнял свой долг и поддерживал отношения с Эмили. Не будь Люки, не было бы никакого долга и, по всей видимости, никаких отношений. Но и это было не главное. Трепеща и замирая от страха, Харриет все яснее понимала, что она влюбилась. Как все по-настоящему влюбленные, она пыталась уже манипулировать будущим. Дейвид не может не принять Эмили, потому что не может не принять Люку. Сердце Харриет переполняло острое, непреодолимое желание. Она понимала, что должна скрывать это свое желание даже от Блейза, что для достижения своей цели ей придется быть упорной, терпеливой и изобретательной. Ее целью был Люка.
* * *
Было субботнее утро. Сегодня Дейвид ушел из дома рано. В последнее время завтраки в Худхаусе как-то сами собой сошли на нет, их просто не было. Кухня — сердце Худхауса — пребывала в беспорядке. Чашки свисали со своих крючков как неприкаянные или вообще стояли где попало. Все поверхности были завалены горами каких-то бесприютных предметов. Старый буфет казался темным от грязи, а не от времени, стол был вторую неделю покрыт одной и той же скатертью. Мать ничего не ела, даже не садилась. С горящими от возбуждения глазами она, как подавальщица, стояла у отца за спиной, и тот, поедая свою яичницу с ветчиной, вынужден был постоянно озираться и посылать ей глуповатые улыбки. Дейвид есть не мог, но отпил кофе из чашки и даже повозил вилкой по тарелке — только бы обошлось без материнских уговоров. После завтрака он тихонько выскользнул на улицу и сразу же за калиткой побежал — скорее прочь.
Накануне вечером был очередной разговор с матерью. Сначала, когда она к нему вошла, он боялся, что, начав говорить, она не выдержит и расплачется. Рисовалось даже, как она, сотрясаемая рыданиями, бросается к нему на грудь, а он обнимает ее, при этом сурово глядя через ее плечо на отца. В тот момент воображаемая картинка произвела на Дейвида отталкивающее впечатление, но после разговора она уже казалась ему символом утешения — увы, недостижимого. Хуже всего была железная воля матери, от которой лицо отца становилось счастливо-униженным и покрывалось красными пятнами. Скандал с криками и руганью — и тот выглядел бы пристойнее. Ее мужественная, чудовищная, отвратительная терпимость, кроме всего прочего, казалась Дейвиду залогом того, что этот кошмар будет тянуться и тянуться. В тот первый вечер, когда мать обрушила на него новость, у него, конечно, возникло ужасное чувство, будто все разлетелось вдребезги, но хотя бы оставалась надежда, что осколки скоро уберут. Видимо, отца «застукали», думал он, теперь ему волей-неволей придется кончать с этой мерзостью, с двойной жизнью. Но ужас, как выяснилось, состоял в том, что двойная жизнь как была, так и осталась.
Этой ночью Дейвиду снилась русалка с лицом матери, в руке она держала живую рыбу. Мать сначала ласково поглаживала рыбу, потом, пристально глядя на Дейвида, начала сдавливать ее рукой, будто выжимая сок. «Пусти, ей же больно», — силился сказать Дейвид, но не мог произнести ни звука, лишь умоляюще тянул к ней руки. Вместо рыбы из-под материнских пальцев уже выползало тошнотворное месиво. Дейвид попытался кричать — застонал и наконец проснулся. Поняв, что находится в собственной спальне, он в первую секунду почувствовал облегчение, но потом сразу все вспомнилось. Он включил свет. На тумбочке рядом с кроватью лежали швейцарский складной ножик, компас, зуб касатки (дядя Эйдриан привез его Дейвиду из Сингапура), гладкий пестрый камешек из шотландского горного ручья, пенни с изображением короля Георга и крошечный плюшевый мишка по имени Уилсон, которого, просыпаясь, Дейвид всегда прятал до вечера в надежное место. Неожиданно размахнувшись, он смел свои сокровища на пол — и тут же осознал в наступившей тишине, что никогда больше не положит их перед сном у своего изголовья.
Лежа без сна, он вспоминал, как мать, с теми же горящими глазами и с той же ужасной решимостью в лице, пришла вчера поздно вечером к нему в комнату и села на кровать. Глядя на него смущенно и одновременно умоляюще, она объясняла, что выхода у них нет и что иначе никак нельзя. Отец не может бросить эту женщину с ребенком. Он должен обеспечивать их, должен ходить к ним в гости, он ведь не может делать вид, что их нет. А раз они есть — в папиной жизни, да и в нашей тоже, — тогда, может, лучше помочь им и пожалеть, вместо того чтобы считать их подлыми врагами? «Понимаешь, — говорила она, — они просто очень несчастные… как арестанты… как беженцы», — никак не могла подобрать нужные слова, чтобы он понял невыносимость ее положения — и смягчился.