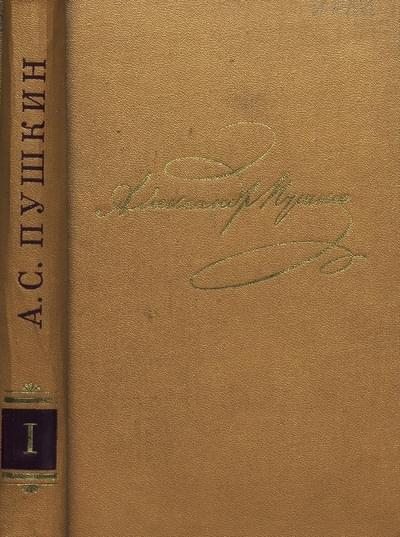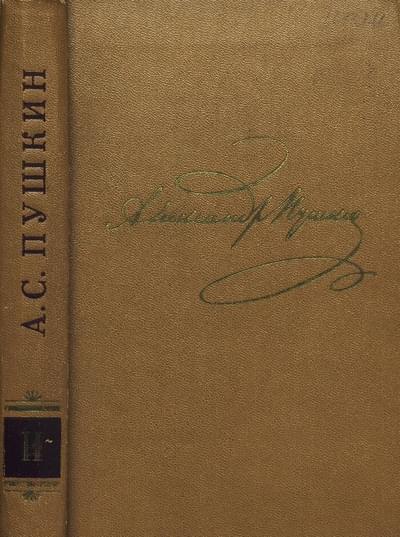аромат, и пламенный мокка
Сбирают там с торговли жадной дани,
Твоя корысть — минувшие века.
Перед тобой обитель вдохновенья
И древности величественный храм;
Тебе вослед, мечтой воображенья
Переношусь к чудесным сим брегам.
Вот на волнах пророческий Делос!
Обрушен храм и тернами порос…
18. Плач о Пиндаре
Однажды наш поэт Пестов,
Неутомимый ткач стихов
И Аполлонов жрец упрямый,
С какою-то ученой дамой
Сидел, о рифмах рассуждал,
Свои творенья величал,
Лишь древних сравнивал с собою,
И вздор свой клюковной водою,
Кобенясь в креслах, запивал.
Коснулось до Пиндара слово.
Друзья, хотя совсем не ново,
Что славный был Пиндар поэт
И что он умер в тридцать лет,
Но им Пиндара жалко стало.
Пиндар великий, грек, певец!
Пиндар, высоких од творец!
Пиндар, каких и не бывало,
Который мог бы мало-мало
Еще не том, не три, не пять,
А десять томов написать.
Зачем так рано он скончался,
Зачем еще он не остался
Пожить, попеть и побренчать?
С печали дама зарыдала,
С печали зарыдал поэт:
За что, за что судьба сослала
Пиндара к Стиксу в тридцать лет!
Лакей с метлою тут случился,
В слезах их видя, прослезился,
И в детской нянька стала выть,
Заплакал с нянькою ребенок,
Заплакал повар, поваренок,
Буфетчик, бросив чашки мыть,
Заголосил при самоваре,
В конюшне конюх зарыдал,
И, словом, целый дом стенал
О песнопевце, о Пиндаре.
Да, признаюся вам, друзья,
Едва и сам не плачу я.
Что ж вышло? Все так громко выли,
Что все соседство взгомозили.
Один сосед к ним второпях
Бежит и вопит: «Что случилось?
О чем вы все в таких слезах?»
Пред ним все горе объяснилось
В немногих жалобных словах.
«Да что за человек чудесный?
Откуда родом ваш Пиндар?
Каких он лет был? молод? стар?
И что об нем еще известно?
Какого чина? Где служил?
Женат был? Вдов? Хотел жениться?
Чем умер? Кто его лечил?
Имел ли время причаститься,
Иль вдруг свалил его удар?
И, словом, кто такой Пиндар?»
Когда ж узнал он из ответа,
Что все несчастье от поэта,
Который между греков жил,
Который в славны древни годы
Певал на скачки греков оды,
Не католик, язычник был,
Что одами его пленялся,
Не понимая их, весь свет,
Что более трех тысяч лет,
Как он во младости скончался —
Поджав бока свои, сосед
Смеяться начал, и смеяться
Так, что от смеха надорвался!
И, смотрим, за соседом вслед
Все — кучер, повар, поваренок,
Буфетчик, нянька и ребенок,
Лакей с метлой, и сам поэт,
И дама — взапуски смеяться.
И хоть и рад бы удержаться,
Но, признаюся вам, друзья,
Смеюсь за ними вслед и я.
19. Прощание
Друзья, в сей день был мой возврат,
Но он для нас и день разлуки;
На дружбу верную дадим друг другу руки:
Кто брат любовию, тот и в разлуке брат.
О, нет! не может быть для дружбы расстоянья!
Вдали, как и вблизи, я буду вам родной,
А благодарные об вас воспоминанья
Возьму на самый край земной.
Вас, добрая сестра[320], на жизнь друг верный мой,
Всего, что здесь мое, со мною разделитель,
Вас брат ваш, долбинский минутный житель,
Благодарит растроганной душой
За те немногие мгновенья,
Которые при вас, в тиши уединенья,
Спокойно музам он и дружбе посвятил.
Что б рок ни присудил,
Но с долбинской моей семьей
Разлука самая меня не разлучит:
Она лишь дружеский союз наш утвердит.
Мой ангел, Ванечка[321], с невинной красотою,
С улыбкой милой на устах,
С слезами на глазах,
Боясь со мной разлуки,
Ко мне бросающийся в руки,
И Машенька[322], и мой угрюмый Петушок[323],
Мои друзья бесценны…
Могу ль когда забыть их ласки незабвенны?
О, будь же, долбинский мой милый уголок,
Спокоен, тих, храним святыми небесами.
Будь радость ясная ваш верный семьянин,
И чтоб из вас в сей жизни ни один
Не познакомился с бедами.
А если уж нельзя здесь горе не узнать,
Будь неизменная надежда вам подруга,
Чтоб вы при ней могли и горе забывать…
Что б ни было, не забывайте друга…
II. Письмо В. А. Жуковского императору Николаю Павловичу о И. В. Киреевском[324]
1832 год
Я перечитал с величайшим вниманием в журнале «Европеец» те статьи, о коих Ваше Императорское Величество благоволили говорить со мною и, положив руку на сердце, осмеливаюсь сказать, что не умею изъяснить себе, что могло быть найдено в них злонамеренного. Думаю, что я не остановился бы пропустить их, когда бы должен был их рассматривать как цензор.
В первой статье, «Девятнадцатый век», автор судить о ходе европейского общества, взяв его от конца XVIII в. до нашего времени, в отношении литературном, нравственном, философическом и религиозном; он не касается до политики (о чем именно говорит в начале статьи), и его собственные мнения решительно антиреволюционные, об остальном же говорит он просто исторически. В некоторых местах он темен, но это без намерения, а единственно оттого, что не умел выразиться яснее, что не только весьма трудно, но и почти неизбежно на русском языке, в котором так мало терминов философических. Это просто неумение писателя. Но и в этих темных местах (если не предполагать сначала дурного намерения в авторе, на что нет никакого повода), добравшись с трудом до смысла, не найдешь ничего предосудительного, ибо везде говорится исключительно об одной литературе и философии и нет нигде ничего политического. Сии места, вырванные из связи целого, могли быть изъяснены неблагоприятным образом, особливо если представить их в смысле