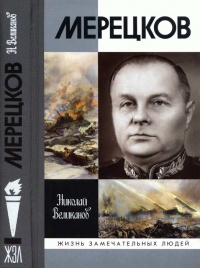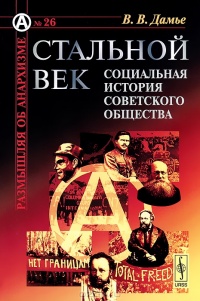Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 80
Процесс славянизации пошел стремительно.
В России я подобных людей не встречал — а в Нью-Йорке они казались мне тем самым русским народом, который так долго искали народовольцы и потом уничтожали большевики.
Ребята узнали откуда-то, что мы пишем стихи. Посыпались заказы для капустников и любовных писем. Простые люди артистов любят. Мы быстро вжились в образ и рассказывали анекдоты из жизни богемы. Я подружился с Василием Лопатиным, былинным богатырем с Рязанского проспекта, который звал себя Большим Васом. Сходил с ним пару раз на поэтические чтения, но Васька искренне признался, что ничего в этом не понимает. Песни мои любит, а стихи — нет.
Гандельсман подрабатывал там, где мог. Служил сторожем в небоскребе, давал уроки русского детям нуворишей. Как-то пристроился к Музею современного искусства торговать альбомами с репродукциями. Однажды пришел возбужденный, злой. Вез книги на тележке, свело спину, книги упали и рассыпались. Их владелец Изя Зильберман принимать товар отказался, а Володю попросил возместить ущерб.
— Мужики, можете сделать ради меня еврейский погром? Надо раскулачить одного негодяя.
Ребята слушали его настороженно. Конфронтации на национальной почве в Нью-Йорке не поощрялись. Васька предложил ему обратиться к неграм.
— У них хоть повод есть.
— Их Соломон изнасиловал царицу Савскую, — сообразил я.
Дело удалось замять, но через пару дней мы с Гандельсманом неожиданно для себя объявили сухой закон, что тоже можно считать составляющей грехопадения. После моего выступления в русском ресторане «Дядя Ваня» подрались два поэта — Володя Друк[89] и Саша Алейник[90]. Выясняли, чья поэзия лучше. Нечто типа дуэли. В результате разбили стекло в ирландском пабе. На мой взгляд — милое дело. Гандельсман, однако, сильно помрачнел и тут же сел за написание совместного коммюнике. В нем мы оба клялись не посещать русских мест, не спорить с поэтами и не пить с «сегодняшнего дня и до конца». Смысл «конца» благоразумно не уточнялся. Мы оба подписали бумагу и с того же момента приняли аскезу и полное воздержание.
Чужие
В начале лета мы с Фостером организовали десант из восьми американцев и направились в Москву собирать тексты для антологии. По существу — в фольклорную экспедицию. Искали гендерную лирику, поэзию сексуальных меньшинств, постмодерн, провинцию. Всё по науке. Если в России еще не развилась гомосексуальная поэзия, мы должны были ее найти. Раз есть гомосексуалисты — значит, должна быть и поэзия. В конце концов, процесс можно активизировать.
В комментарии к вышедшей впоследствии огромной книге я фантазировал: «Можете себе представить, что восемь русских энтузиастов приезжают в Нью-Йорк, поднимают его на уши чтением стихов на главных площадках города, открывают сотрудничество с ведущими литературными журналами страны, повсюду им оказывается информационная поддержка, дается проживание и выплачиваются суточные? Нет, не можете. С точки зрения нового миропорядка, только Нью-Йорк является столицей мира. Американское издательство „Талисман“ шерстит русские провинции в поисках талантов. А что американец может понимать в русской поэзии?»
Фостер моего сравнения не понял. Решил, что я издеваюсь. Я всего лишь строил математические модели. Почему сравнивать Америку и Россию нельзя? Симметричного ответа не существует? Ядерный паритет есть. Равенство поэзий, по словам Дяди Джо, тоже есть. А всеобщей открытости нет. Диод. В одну сторону можно, в другую — нельзя.
В Москве меня тоже назвали выскочкой и проходимцем. Приехал — и раскомандовался. Каких-то «пиндосов» привез. Мы провели конференции в редакциях журналов, выступили в клубах. Иногда нас встречали пикеты «Yankee go home». Это было чертовски приятно.
Для меня итогом тусовки стало то, что я наконец познакомился с Лешей Парщиковым. До этого мы несколько раз говорили по телефону по наводке Бродского. Теперь встретились.
Я сидел на корточках во дворе Чеховской библиотеки на Страстном бульваре и курил. В зале продолжался поэтический марафон, который я на время поручил вести кому-то из коллег. Леша подошел и начал скручивать самокрутку с помощью специальной пластмассовой машинки, купленной где-то в Европе.
Я заинтересовался этим прибором. Леша показал, как это делается.
— Парщиков? — спросил я, когда поднял глаза.
— Месяц? — спросил он.
У него были большая голова с копной цыганских волос и грустные глаза.
— Курицын говорил мне, что ты переливаешь воду из одних морей в другие. Коллекционируешь дождики. Хорошая идея.
— Я переливал воду из Белого моря в Черное, — сказал я. — В результате холодная война закончилась.
— А я-то все думаю, почему это произошло, — рассмеялся он. — Фотокамерами интересуешься?
Он раскрыл какой-то древний фотоаппарат. И начал рассказывать про его устройство.
— Это же маленький театр. Тут всё — как там. Кулисы, освещение, расстояние от сцены до зрительного зала, актеры, декорации.
Он походил на чокнутого фокусника, который показывает устройство гнезда, из которого вот-вот «вылетит птичка».
Я отрицательно качал головой. Точек или даже полей соприкосновения у нас было много и без фототехники.
— Тебе не кажется, что Жданов и Айги похожи на двух крестьян на лавке? — улыбнулся он. — Спорят, хлопают друг друга по плечу. Им явно не хватает высокомерия мэтров.
Указанные лица находились сейчас в буфете и пили водку. Я им немного завидовал, но сухой закон соблюдал.
Мы выяснили, что наши книжки стояли рядом в плане «Советского писателя», но Лешину книгу затормозили из-за его отъезда в Стэнфорд, а мою — напечатали, потому что я еще находился в стране.
Я в то время только начинал свой «варварский проект» под названием «Мифы о Хельвиге». Он был безбожно далек от техногенной поэтики Парщикова. «Ты в небо волком завыл — / и на три года ослеп, / но солнце остановил, / чтобы вырастить хлеб»[91]. Леша был в курсе моих попыток создания «глобального фольклора» и заговорил об Исусе Навине, остановившем солнце. Он увязывал это с дирижаблем, летящим над землей против ее движения, но со скоростью ее вращения. Мы разговорились. Я вспомнил, что в детстве считал, что для перемещения нужно подняться на воздушном шаре над землей и ждать, пока она провернется под тобой до необходимого географического пункта.
Стемнело. Чтения в Чеховке переросли в пьянку. Мы с Лешей продолжали болтать и, когда остановились, обнаружили себя в компании знакомых людей, которые стали вдруг незнакомыми. Ребята пили пиво, что-то обсуждали, но мы удалились от них за время разговора настолько, что общение с ними стало невозможным. Так мы и болтали более десяти лет, пока он не умер. Парщиков был для меня единственным оправданием «западного мифа», «идеи культуры Просвещения», The American Poetry Review и журнала Poetry[92]. Для меня в Нью-Йорке эти понятия исчезли. Я одичал и полагался только на интуицию. Запад и Восток стали абстракциями. Поэзия и проза слились в общее место. Парщиков постоянно возвращал меня и к культуре, и к необходимости ее развития. Присылал названия фильмов и книг, на которые стоит обратить внимание. Когда прилетал в Штаты, таскал в Нью-Йорке по букинистическим лавкам и музеям. Дядя Джо за «веяниями моды» почти не следил.
Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 80