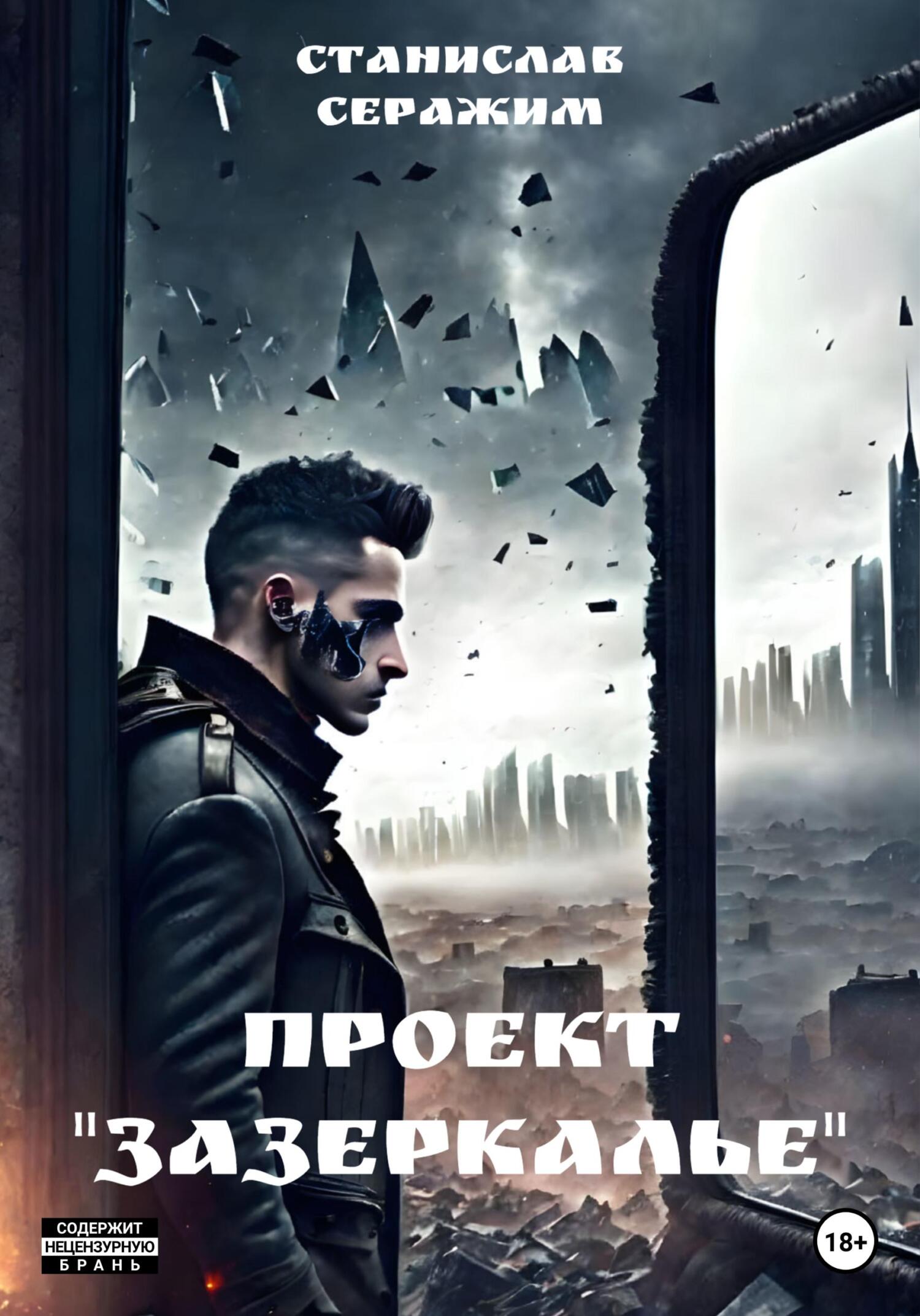лагуну боном. Платона Хабибулин посылает нарубить сухого валежника для костра и для печурки, что стоит в домике, на плоту. Ночи еще обещают быть холодными, особенно здесь, на реке… Развели костер, повесили на сырую осиновую палку ведро с водой. Ухнули туда три котелка гречневой крупы. Любят сплавщики кашу покруче. «От нее в животе плотнее, — как выразился Петро, — не булькает, как от жиденького супца».
Сварили кашу, заправили мясной тушенкой, повесили в другом ведре чай кипятить.
— Он на костре, ох, как пахнет! — закатывает глаза Софа. Он сидит у костра, скрестив ноги.
Кроме Софы, на плоту семь человек. Все они из разных бригад и даже с разных мастерских подучастков. Платон рассеянно слушает болтовню Хабибулина. Он чем-то напоминает ему Портнягина, бывшего их бригадира в порту. И, вообще, эти люди такие же, как и те, грузчики. Они не умеют хитрить и прикидываться, иногда такое в глаза скажут, что не всякий бы решился. А тут и знают, что Рита стала встречаться с Тарасовым — в небольших поселках люди все друг о друге знают, — в самую бы пору разыграть сейчас парня, что, мол, с «бородой» оставила тебя технорук, а молчат. Да, эти люди стоят того, чтобы грудью пойти за них на скалы.
Вода в закопченном до самых ушек вместительном ведре, говорливо забулькала. Туда бросили несколько прутьев лимонника. Из ведра потянуло горьковато-кислым запахом, да таким стойким, что он увязался за людьми, как голодный пес. Из ведра черпали каждый своей кружкой.
— Вода нынче хорошая, — хрустит сахаром Софа. Он обмакнет его в чай, пососет, а потом снова хрустит. — Если на нижнем складе не прохлопают ушами, лес пойдет… Эх-ма, только бы двенадцатый километр не подвел! — Он носком сапога шевелит горящие головешки и снова тянется с кружкой к ведру. — На разведку ходили, там лес со дна поднимается…
— В прошлом году на двенадцатом покувыркались, — вставляет Петро. — Такой заломище наворочало, что ой-да-лю-ли! — вздыхает он, то ли снова вспомнив Катерину, то ли трудную сплавную навигацию прошлого года.
— Да-а, — тянет кто-то из рабочих.
— Смотрю я на тебя, Петро, фамилией русский, громкий фамилия, а лицо — татарский, — смешливо щурится Софа.
— Рыбак рыбака видит издалека, — говорит один из рабочих, тот самый, который стоял с Петром на веслах.
— Кто его знает, — беззлобно тянет Суворов. — Может, мамаша с каким татарином и согрешила…
— Ох-хо-хо! Ха-ха-ха! — ударяет по костру дружный смех. Пламя костра колеблется, сыплет искрами.
Небо над тайгой посерело, на речку плашмя упал туман. Надвинулась глыба сопки. Из кустарников показалась ночь, черная, будто побывала перед этим в печной трубе. Затушили костер, пошли в избушку, что на плоту. В избушке жарко. В избушке чугунная печурка, упершись железными лапками в железный лист, покраснела от переваривания смолистых сучьев. Зажгли фонарь, стали укладываться спать на деревянных нарах.
Платон ворочается с боку на бок — никак не идет сон, а здесь еще молодецкий храп Петра. Может, и верно, «помрешь, трава на могиле вырастет…» Платону до слез обидно за свою мужскую гордость — «бороду Рита приклеила…» Он набрасывает чей-то полушубок, выходит из избушки. Закуривает, садится на чурбак. «Может быть, мне капитанского мостика не хватает? — спрашивает себя Корешов и ничего не может ответить. А плот слегка покачивает, убаюкивает. Вокруг жуткая тишина. И кажется, будто ты один во всем мире, во всем. — Страшно, наверное, быть одному во всем мире, страшно…» — Но за спиной из избушки доносится храп, там люди…
— Тра-та-та, тра-та-та…
Платон отворачивает воротник полушубка, напрягает слух. Нет, послышалось.
— Что не спишь, парень? — Это из избушки вышел Софа. — Думаешь? Это хорошо — когда думаешь, в твои годы надо думать…
— А в ваши все ясно? — Платон щелчком отправил окурок в воду.
— Ха-ха-ха! — тихонько посмеивается Софа. Он посмеивается и к месту и не к месту, будто всегда чему-то рад, всегда ему весело. — Сегодня все ясно, завтра ничего не ясно, — говорит афоризмами Хабибулин. — Так всю жизнь…
— Тра-та-та, тра-та-та, — снова улавливает Платон непонятные и далекие-далекие звуки. Софа тоже вскидывается, прикладывает ладонь к уху, всматривается в поблескивающую под лунным светом даль реки.
— Моторка идет! Не боится башка свернуть! Вот, ложились спать — все ясно, а сейчас ни черта не ясно, кого дьяволы несут…
У Платона перед глазами встают пенные всплески у валунов. Можно только посочувствовать смельчаку, рискнувшему идти на моторной лодке среди ночи. Вот мотор заработал на больших оборотах, потом перешел на веселый тон.
— Прошел скалу! — выдохнул Софа. Некоторое время думает и снова говорит:
— Слышу, сам Наумов идет. Значит, не зря идет, надо будить своих…
«Скажешь, Наумов, — усмехнулся про себя Платон. Как-то не вяжется с представлением о начальнике лесоучастка, чтобы тот решился идти на моторке в ночь. — А, впрочем, и в тихом болоте черти водятся».
Они с Хабибулиным сошли на берег. Пробрались к бону. Вот уже на воде видна черная точка, она растет, приближается.
— Верно отгадал, сам пожаловал, — не оборачиваясь, обронил Софа, сложив ладони рупором закричал: — Э-гей-гей! Э-гей-гей!
С лодки их заметили. Она круто свернула и, не сбавляя хода, направилась к берегу. В лодке двое. На берег выскочил Наумов.
— Хабибулин, буди народ. Беда на двенадцатом! Председатель колхоза среди ночи поднял, — кивает Наумов на своего спутника. — Там залом нагородило, вода на поля пошла, почву так и вымывает…
— Ты поезжай, я следом, — засуетился Софа.
— Это ты, Корешов? — оборачивается Наумов к Платону. — Садись к нам в лодку, а то с этим председателем скука одна… — он притворно зевает и хлопает по рту ладошкой.
Пошли полным ходом. Председатель колхоза сидит между Наумовым и Платоном. Он беспрестанно курит и в который уже раз надоедает вопросом:
— Неужели подрывника нет?
— Говорю тебе, рыбнадзор запретил на реке подрывать, — начинает сердиться Леонид Павлович. Но злит его больше не председатель, а тот, «двенадцатый». А здесь еще дьявольски хочется спать. Наумов тянется через борт, черпает ладошкой воду, умывает лицо, пырхает.
— Выкупать тебя, что ли? — донимает он председателя колхоза. — Вы, колхозники, больше в земле копаетесь. Наверное, и плавать не умеете?
— Купай, все равно на свои поля вынесет, — невозмутимо отвечает тот. Потом шуршит плащом, негромко и почему-то таинственным голосом сообщает: — К залому приближаемся. Вон сколько наворочало!..
И верно, не потребовалось и дневного света, чтобы увидеть, какой в узком проходе реки образовался залом. Вода, лишенная свободного прохода, хлынула на левый берег, на колхозные поля.
Причалили к сухому клочку земли. Стали дожидаться Хабибулина с рабочими. Наумов хмыкает, осматривая залом, крутит головой.
— Н-да, аммональчику бы здесь…
— Я же говорил, — живо вставляет председатель. — Вот бы…
— Говорил, говорил, и я