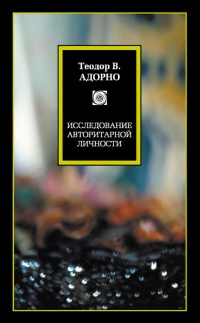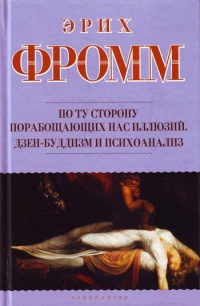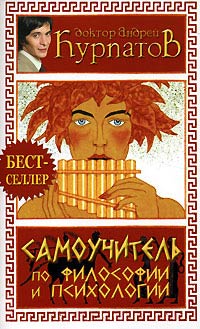Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 70
В обсуждении мессианства можно услышать отзвук давних споров о хилиазме и эсхатологии, в которых, с одной стороны, были Иустин Философ и Ириней Лионский, отодвигавшие тысячелетнее Царство Христово в будущее, а с другой – Ориген и блаженный Августин, видевшие это Царство воплощенным в самой церкви и уже осуществленным на земле[570]. Вторая позиция не просто противостоит чувственной интерпретации будущего Царства, но и учит искать пути к «встрече с самим собой», призывает проникнуть в духовное свершение здесь и сейчас.
Если далее разбирать логику прерывности, то возникает не менее трудный вопрос об этом трансцендентном вторжении в историю, которое прерывает ее ход. Сама природа прерывного, аритмологического начала (А. Белый) остается не выясненной до конца. Идет ли речь о человеческой свободе, о принципиальной непредсказуемости того выбора, перед которым встает каждый из нас в своей личной и вместе с тем – в мировой истории? Или мы говорим о божественном вмешательстве?
Какова природа диалектического решения, которое предлагает здесь Блох? Главное, по-видимому, в том, что он заменяет религиозную практику (Розенцвейг) политической и художественной, и именно за такой практикой оставляет последнее слово в сотворении человеком своей истории. И если разрешение антиномий мессианизма Розенцвейг находит во взаимодополняемости иудаизма и христианства, находящей свое выражение в символической деятельности религиозной общины, в коллективной задаче, передаваемой из поколения в поколение, то у Блоха противоречия упраздняются праксисом, учреждающим и культивирующим утопическое начало, праксисом, который был для Блоха главным медиумом утопии еще до более или менее «окончательного» его обращения в марксизм[571].
Искусство задает и материал, и формы грядущего мира, оно и ключевой метод, и предмет, а потому, разумеется, не есть «просто фантазия». Мессианская идея Блоха – это идея не только религиозная, но и поэтическая. Другое дело, что больших различий
Блох не делает, но ведь важны и источники интуиций, а они в «Духе утопии» выстроены вокруг музыки и экспрессионистской живописи, к тому же сами тексты, написанные порой как пророчества, не чужды преднамеренной художественной суггестии и напоминают алхимическую лабораторию, где выплавляются новые формы.
Прежде чем давать оценку такому решению, продвинемся чуть дальше в этом лабиринте. У мессианизма всегда были трудные отношения с прошлым. И не менее трудны они у Блоха: утопия часто оборачивается недоверием к прошлому или недооценкой его. Это грозит утратой прошлого, а значит – и будущего[572].
В частности, весьма двусмысленной оказывается позиция Блоха в отношении символического времени, времени священного календаря, когда мифическое прошлое как бы перекрывает настоящее, указывая, что есть совершенно иной мир, который лежит за пределами современности, но который в символическом действе можно и нужно постоянно возрождать, чтобы не прерывать связи времен. Именно в этом понимание иного и нового у Розенцвейга[573] отличается от философии «революционного гнозиса».
В иудаизме, таком, каким видел его Розенцвейг и каким представал он отчасти и Беньямину, и Шолему, внезапная остановка времен обнажает перед нами самое отдаленное будущее, это колоссальное, бесконечное ускорение времени. Вместе с тем в еврейской религии время как бы останавливается, евреи вырваны из времени, живут словно среди предков, и эта остановка времени соответствует его бесконечной акселерации, а близость избавления – возвращению к истокам. Если формулировать это на языке диалога между мистикой и эсхатологией, о котором говорилось выше, то речь идет о том, что предельное сосредоточение на мгновении, на «актуальном настоящем», можно мыслить как непременное условие мессианского обещания, ибо иначе понять, что именно нам обещано, мы не способны.
Именно эта предельная напряженность, в которой свернута целостность исторического процесса, так занимала Беньямина в его тезисах о философии истории. В каком-то смысле перед нами вечность и вместе с тем ветхое прошлое. Блох же относится к идее первоначального состояния подозрительно, он истолковывает его как простое повторение. Мышление, стремящееся вернуться к истокам, с его точки зрения, ретроградно, политически ущербно. Но ведь вопрос в том, как понимать эти истоки и как понимать ту новизну, принципиальную новизну, которой живет утопия. У Блоха же, как было сказано выше, целостность мессианской идеи обеспечивается не общими истоками, а общими целями, родина помещается не в начале времен, а в конце.
Какое же решение можно отыскать у Беньямина? Мессианское избавление он трактует как собирание всего того, что должно было сбыться[574]. Парадоксальным образом возвращение к первоистоку у Беньямина оказывается как возвращением к тому, что всегда было, так и обретением чего-то совершенно нового и неожиданного. В этом контексте характерно полнейшее неприятие Беньямином идеи вечного возвращения:
Наиболее подлинная черта диалектического опыта – развеять видимость вечно-тождественного и даже повторения в истории. Подлинно политический опыт от этой видимости совершенно свободен (GS V, 1. S. 591).
Но разве не угадывается в этом парадоксе любое мало-мальски проницательное суждение о конечной человеческой жизни, которая всякий раз начинает с нуля? И разве не различима здесь эстетическая модель оригинального произведения?
Хорошо иллюстрирует эту диалектику взаимодействие идеи и эмпирического мира. И дело не только в том, что в идее можно отыскать противоречивое сочетание чувственного и сверхчувственного. Реализация, конкретизация, разворачивание идеи и есть источник обновления первоначального принципа. Без такой конкретизации и реализации не было бы и самого принципа, и это, конечно, прекрасно описано уже у Гегеля.
Такое же рассуждение можно применить и в философии языка, которой посвящено несколько работ Беньямина. Первоначальное слово, некий оригинал, первоструктура, адамический язык, из которого берет начало язык современный, – это основа бесконечно многих сочетаний. В статье «Задача переводчика» представлена изящная схема: возвращение к первоначалу, к изначальному языку – миссия подлинного переводчика – вместе с тем есть словесное творчество, которое всякий раз, в каждую эпоху заново принимается за дело. Переводы меняются вместе с оригиналами, и всякий раз особым образом обнажают, высвечивают тот первоначальный, дословный, существующий до всякого смысла язык, который обнаруживается в форме, в истинной поэзии. То, что было всегда, и то, чего еще никогда не было, в ней не отделены друг от друга.
Так и в истории. Первопринцип, некий тайный смысл истории совсем не исключает появления новых возможностей, в истории и обществе действуют открытые процессы – Бенья-мин использует замечательный образ: история длится так же, как горит лампада, чей огонь трепещет, мерцает, и всякий раз оставляет новые блики, но лампада меж тем продолжает гореть (GS I, 3. S. 1245). В этом горении осуществляет себя касание вечного и преходящего (а именно так описывается у Беньямина не только история, но и, например, структура аллегории в книге о барочной драме).
Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 70